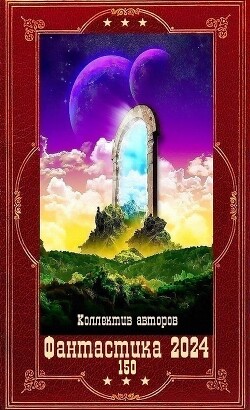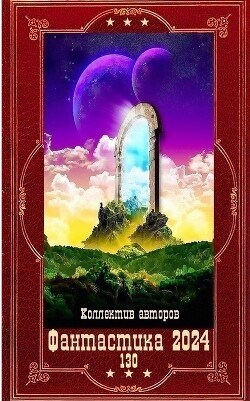Пол и секуляризм (СИ) - Скотт Джоан Уоллак
«Расколдовывание»
Для секуляристов деление на традиционный и современный периоды опиралось на резкое противопоставление религии и науки. Биология особенно активно привлекалась для обеспечения уверенности там, где предположительная утрата религиозных гарантий порождала неуверенность. Вместо церковных доктрин секуляристы предлагали медицинские трактаты и основанные на них законодательные акты. Вместо библейского рассказа о сотворении мира в XIX веке они обратились к гинекологии: жизнь стала рассматриваться как спонтанный, автономный продукт репродуктивного цикла женщины. Женщина как Природа, Природа как Женщина — нет никакого внешнего источника для жизни. И для мысли его тоже нет. Мысль исходила от науки, от способности человека абстрагироваться и разделять, рационализировать жизнь, подчеркивая в ней разделение труда. В конце концов наука была не чем иным, как подчинением Природы воле человека, расчетам и технике, которые были источником его собственного авторитета.
Даже восхваляя прогресс науки и представляя религию как вопрос (в лучшем случае) частного интереса, теоретики-секуляристы были обеспокоены общественным воздействием замены религии наукой. Как это повлияет на этику, мораль и на самый смысл жизни? Если религия принадлежала только царству иррационального, указывал Макс Вебер, это была бы настоящая потеря для человеческой чувственности — как показывает употребление им слова «расколдовывание».
Судьба нашей эпохи с характерной для нее рационализацией и интеллектуализацией и прежде всего расколдовыванием мира заключается в том, что высшие благороднейшие ценности ушли из общественной сферы или в потустороннее царство мистической жизни, или в братскую близость непосредственных отношений отдельных индивидов друг к другу [159].
Слово «расколдовывание» подсказывало, что речь идет не только об утрате общих иллюзий и связанных с ними радостей, но также об утрате «the ultimate and most sublime values» — отличительных, универсальных качеств, которые питают человеческую жизнь. По Веберу, «расколдовывание мира» не уничтожило эти ценности, но приватизировало их, устранило в качестве источника непосредственного вдохновения для общественной деятельности. Заменившие их «технические средства и расчеты» принесло ощущение господства и покончило с потребностью апеллировать к таинственным силам духов или богов. Но предупреждал Вебер: «возрастающая интеллектуализация и рационализация не означают роста знаний»; они — еще один способ добиться господства. В отсутствие внешних причин они — попытка людей стать агентами своей собственной жизни [160]. Вебер связывал агентность не со всеми людьми, а только с тем, что он называл «мужественностью» — способностью овладевать «техническими средствами и расчетами», чтобы при их посредстве смотреть на мир без иллюзий или утешений религии.
Однако за техническую агентность пришлось заплатить высокую цену. Упор на превосходство рациональных расчетов, акцент на том, что разум — практическое руководство для жизни людей, означали презрение ко всему, что считалось неразумным, приписывание неразумности к другой сфере. Отсюда понятие о разделении сфер: публичной и частной, разума и страсти, объективного и субъективного. Вебер, как и многие его современники, полагал, что частные сферы (по его мысли, таковых существовало несколько) предлагали компенсацию эффектов отчуждения, создаваемых бюрократической рациональностью в публичной жизни; они были своего рода побочным явлением, необходимым, но недостаточным для эволюции. Вебер способствовал идеализации разделения на публичное и частное, хотя и критически отзывался о его воздействии. Его понятие расколдовывания стало (и по сей день остается) одним из организующих принципов секуляристского дискурса.
Веберовское понятие сфер касалось внешнего и внутреннего состояния бытия. Он размышлял о конфликтах внутри индивидов, которые во внешних, высокорационализированных сферах экономики и политики тосковали «внутренне по менее материальным формам самореализации». Если публичная сфера характеризовалась прежде всего технической эффективностью, частные сферы сосредотачивались на аффекте, страсти и иррациональном.
Современная форма одновременно теоретической и практической, интеллектуальной и целенаправленной рационализации образа мира и жизненного поведения привела к одному общему результату. Он заключается в следующем: чем больше развивается этот особый вид рационализации, тем больше религия по разным причинам оттесняется в область иррационального [161].
Не только религия, но и различные формы искусства и эротики тоже. Искусство
берет на себя функцию различным образом толкуемого мирского спасения — спасения от растущего гнета повседневности и, прежде всего, от усиливающегося давления теоретического и практического рационализма [162].
А половая любовь,
столь противоположная всему объективному, рациональному, всеобщему безграничность в готовности отдаться служит здесь особому смыслу, который одно единичное существо связывает в своей иррациональности с этим, и только этим, единичным существом […] Любящий знает, что проник в недоступное никаким рациональным усилиям ядро истинно живого [163].
Расколодовывание означало приватизацию религии, эмоций и секса: по Веберу, они становились измерениями внутреннего опыта, но также они становились феминизированными атрибутами в глазах современников — и философов, и политиков [164]. На их взгляд, в понятии разделения сфер подразумевалась определенная география: публичный политический рынок был сценой мужской соревновательной рациональности, приватный домашний очаг предоставлял убежище от этого грубого мира, утешение в форме аффективной чувствительности женщин. За идеей разделения сфер было также закреплено определенное представление о темпоральности. Если современность, олицетворением которой были рынки и политические институты, ассоциировалась с движением истории вперед, приватная сфера заключала в себе все неизменное, она была хранилищем традиции, никак не затронутой движением времени. Клингер формулирует это следующим образом:
перед лицом темных аспектов процесса рационализации яркий свет проливается на сферу, которую она затрагивает в наименьшей степени: на особую, все более изолированную сферу семьи и на женщину в ее центре; то, что были утрачено, найдено снова [165].
Тоска по вечности
Мысль об утрате религии преследовала теоретиков новой науки, заронив сомнения в способности секулярности охватить все аспекты жизни.
Этот мир с чисто этической точки зрения, — пишет Вебер, — должен был казаться религии полностью лишенным в своем существовании божественного «смысла» и ценности [166].
Обсуждение современности у Вебера основывалось на идеализированной версии околдованного, лучше удовлетворяющего духовные потребности прошлого. В ней выражалось представление секуляризма о себе как о резком разрыве с прошлым, как о новой стадии в развертывании прогресса истории. Но, как было известно Веберу, секуляризация принесла не только победы. Она больше не могла гарантировать бессмертия или некоей духовной жизни после физической смерти, равно как не давала возможности представить смерть как некоторое продолжение жизни; вместо этого смерть становилась разрывом, нежелательным «отсечением» [167]. Вебер отмечает, что рациональное вопрошание для этого не годилось: «Наука, создавшая этот космос [природной каузальности] не могла достоверно обосновать собственные конечные посылки». Недостаток уверенности и определенности заставил переключиться на поиски «совершенства во внутреннем мире» в категориях «культуры», но нескончаемая погоня за все новыми развлечениями свидетельствовала не только о «бессмысленности смерти», но и о «бесчувственности самой жизни». «Он [человек] с каждым шагом [культуры] вынужден все больше погружаться в гибельную бессмысленность» [168].