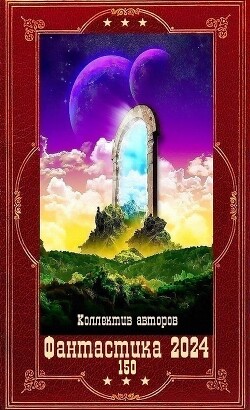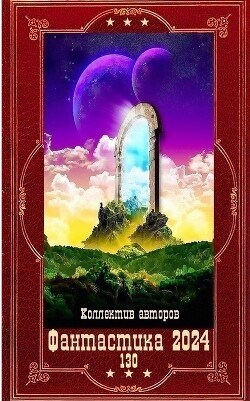Пол и секуляризм (СИ) - Скотт Джоан Уоллак
В данном случае новые формы подчинения женщин, формы, которые (как мы увидим в главах 2 и 3) не так уж далеки от форм, ассоциировавшихся с возникновением европейских национальных государств, объясняются требованиями современного государственного строительства, а вместе с ним — с введением секуляризмом новых классификаций на отдельные друг от друга сферы, а не с сохранением традиционного ислама. И Халлак, и Массад отмечают, что гендерное неравенство не уникально для постколониальных стран, но является чертой современных национальных государств, новых и старых, на Западе и на Востоке [126].
Пытаясь отделить приписывание подчинения женщин исламским традициям от ассоциации феминизма с вестернизацией, Кумари Джайавардена подчеркивает, что к подъему индигенного феминизма в третьем мире привело внедрение капитализма и некоторых буржуазных идеологий в результате империалистического господства, а не противостояние исламу (или другим восточным религиям) [127]. В одном кейсе за другим (Турция, Египет, Иран, Афганистан, Индия, Шри-Ланка, Индонезия, Филиппины, Китай, Вьетнам, Корея, Япония) она связывает феминистское движение с национально-освободительной борьбой, вдохновленной антикапитализмом не меньше, чем антиимпериализмом (они связаны между собой), но также ограниченной (как и у ее западных аналогов) либеральными представлениями о правах.
Женские движения во многих странах Азии добились политического и юридического равенства с мужчинами на юридическом уровне, но не сумели оказать влияние на подчинение женщин внутри патриархальных структур семьи и общества [128].
Обоснование этому подчинению могли находить в религиозных учениях, утверждает она, но это был эффект модерна, а не оплот традиции. Положение женщины в семейном праве — само по себе продукт секуляризационного влияния.
Однако, несмотря на весь этот корпус исследований, угнетение женщин в постколониальных странах регулярно приписывается неизменным, «традиционным» религиозным практикам: в наши дни главным виновником оказывается ислам. В этой связи Массад цитирует доклад 2003 года «Арабское гуманитарное развитие», подготовленный в рамках программы ООН «Развитие наций»:
Большинство арабских законов о личном статусе в отношении мусульман и немусульман в одинаковой мере свидетельствуют о юридически санкционированном гендерном дисбалансе. Это связано с тем, что законодательство, касающееся личного статуса, преимущественно происходит от теологических интерпретаций и суждений. Последние зародились в далеком прошлом, когда общество было подчинено гендерной дискриминации, и приобрели неприкосновенность и абсолютный характер в той запутанной области, где неизменные догматы религиозной веры взаимодействуют с историей общества [129].
Или, в более простой формулировке Джойс Кэрол Оутс, «господствующая религия Египта» виновата в насилии над женщинами во время летних протестов 2013 года [130]. Этот отказ от истории, я полагаю, связан с сохранением дискурса секуляризма — или, точнее, с его современной реактивацией. В этом дискурсе женщины упорно ассоциируются с религией: они — олицетворение религии, ее протагонисты и ее жертвы. В глазах западных секуляристов XIX века так были представлены «наши» женщины; сегодня же это «другие» женщины на (Ближнем) Востоке. Контраст между «нами» и «ими» доказывает триумф западной свободы над вечно отстающим «Востоком». Но в XXI веке, как и в XIX, идентификация женщин с религией — не плод вневременных религиозных заветов; она — эффект того, как дискурс секуляризма организовал наше видение мира.
Глава 2. Репродуктивный футуризм
В дискурсе секуляризма существование разделенных сфер для мужчин и женщин больше не приписывалось Богу. Оно воспринималось как естественный факт. Акцент на воле природы был отличительной чертой секуляризма XIX века. Биология человека стала последним источником неравных ролей женщины и мужчины. Именно по этой причине женские тела маркировались как агенты воспроизводства, как гарантия будущего семьи и, шире, расы и нации, а мужские — как воплощение труда, и ручного, и интеллектуального.
Когда мужчины страшатся труда или боятся праведной войны, — писал Теодор Рузвельт, — когда женщины страшатся материнства, они оказываются на краю пропасти; и да, они должны в таком случае исчезнуть с лица Земли, где становятся объектом справедливых насмешек со стороны всех мужчин и женщин, которые сами сильны и отважны [131].
Даже когда мужской и женский пол распределялись по разным сферам, их самые интимные отношения попадали под пристальное публичное внимание. Публичное проникало в частное как «биовласть», по определению Фуко, обозначение жизни как «политического объекта», в котором крайне нуждались и капитализм, и государство для «контролируемого включения тел в аппарат производства и через подгонку феноменов народонаселения к экономическим процессам» [132]. Секс лежал на пересечении двух осей: дисциплинирования тел и регулирования населения.
В дискурсе секуляризма гендерное разделение труда приписывалось биологии, но у него также был эволюционный аспект, связывавший цивилизационный прогресс, а следовательно, и прогресс белой расы, со специализированной функцией каждого пола. Так, французский социолог Эмиль Дюркгейм полагал, что половая и социальная дифференциация развивались одновременно. В далеком прошлом, отмечал он, социальные отношения основывались на сходстве. Различения между мужчиной и женщиной были едва заметны. Оба пола имели одни и те же размеры и выполняли одинаковые функции. Женщины, подобно самкам некоторых животных, гордились своей воинственной агрессивностью. Сексуальные отношения были случайными («механическими»), такой вещи, как супружеская верность, не существовало. Приход рациональности, выражавшийся в разделении труда, все это переменил. Дифференциация стала знаком цивилизации. Женщина «удалилась от военных и общественных дел, давно уже жизнь ее целиком сосредоточилась внутри семьи». В результате «две значительные функции психической жизни как бы диссоциировались», женщины стали специализироваться на женских «эмоциональных функциях», мужчины — на «интеллектуальных» [133]. Английский писатель Г. Уэллс откликнулся на эти темы, отметив, что «на протяжении долгого времени в человеческом развитии у эволюционных сил была тенденция к дифференциации. Взрослая белая женщина отличается от взрослого белого мужчины больше, чем чернокожая женщина или женщина-пигмей от соответствующих мужчин» [134]. В 1908 году Айван Блох заявил: «Очевидно … что вся цивилизация в целом — продукт физической и психической дифференциации полов» [135].
Историк Стефан Дюдинк отмечает двусмысленность этих широко распространенных взглядов:
Только передовые общества, как предполагалось, организовывали свою социальную, политическую, моральную и культурную жизнь в соответствии с истинными понятиями о половым различии. Общества, не подчинявшиеся правилам природы в этой части, становились отсталыми. То есть до некоторой степени мужественность и женственность стали целями на горизонте исторического развития. Однако сами эти концепции были надежно защищены от истории [136].
Философ Корнелия Клингер указывает, что Гегель связывал роль женщин с семьей и характеризовал их как вечное присутствие. Даже переживание времени, по его словам, отличалось у обоих полов: время женщины — это циклическое время природы, время мужчины — линейное время истории. Георг Зиммель видел в женщине гаранта целостности, которая в противном случае оказывалась под угрозой: «женщина представляет единство, в отличие от мужчины, который тесно связан с рассеянной множественностью не поддающейся оценкам жизни» [137]. Понятие о разделении труда подразумевало взаимодополнение: оба пола выполняли разные, но необходимые функции в «гармонии соответствующего друг другу неравенства», основанного на исторически эволюционировавших природных различиях между полами [138].