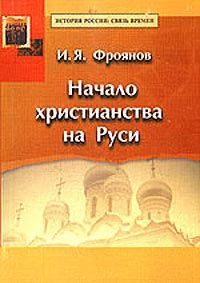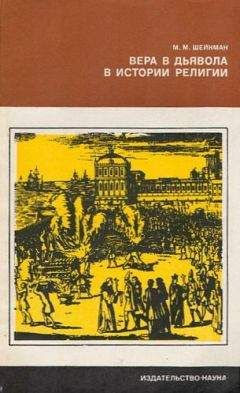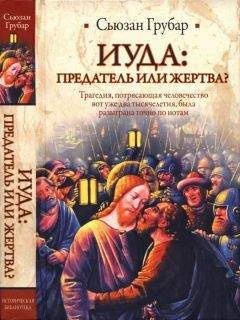Жорж Минуа - Дьявол
И, наконец, отметим, что во всем этом деле постоянно проступает элемент эротики, что, впрочем, характерно для большинства дел, связанных с колдовством. В данном случае сексуально неудовлетворенные женщины перенесли на Грандье свои тайные желания. Мишель Кармона приводит отрывок из «Извлечений из показаний участников процесса Грандье» (Extrait des preuves qui sont au proces de Grandier), который звучит достаточно двусмысленно. В нем говорится о том, что однажды сестра Клер де Сазери почувствовала такое желание разделить постель со своим большим другом, которым, как она признавалась, был названный Грандье, что, подойдя получить причастие, она вдруг поднялась и отправилась в свою комнату, где одна из сестер, пошедшая вслед за ней, увидела ее с крестом в руке, с помощью которого она, уже засунув его под юбку, готовилась удовлетворить свое интимное желание».
IV — От религиозного мифа к литературному
В период с XVI по XVIII век спор о черте претерпел значительную эволюцию, из стадии религиозной одержимости трансформировавшись в литературный миф; это было характерно для времени, которое непосредственно предшествовало романтизму. Превращение Сатаны в Мефистофеля по сути не стало скачком из веры в неверие, скорее — в своеобразной форме — от одного мифа к другому, тоже очень действенному. Дьявол подвергся секуляризации, но продолжал играть социальную роль, правда, заметно изменив свою направленность.
В XVI веке он вызывает у мистиков страх. В конце же XVIII века дьявол соблазняет интеллектуалов способностью необозримо расширить границы возможностей личности. Во времена Реформации он часто является как к протестантам, так и к католикам, строя против них козни. Известно, до какой степени дьявол обуял Лютера, который в своих «Дьявольских книгах» (Teufelsbucher) описал множество его явлений. Он был убежден, что является постоянным объектом нападения, в том числе физического. В замке Вартбург Лютер бросил в Сатану оказавшейся под рукой чернильницей, и разлившиеся чернила оставили несмываемый след. Он страдал запорами и дошел до того, что поверил в то, что в его кишечнике поселился демон, после чего бросил ему в своем излюбленном скатологическом стиле: «Если тебе недостаточно, дьявол, я уже испражнялся и мочился. Натри себе этим морду и съешь кусочек». Все встречавшиеся ему в жизни препятствия он приписывал исключительно дьяволу, с которым он вел эпохальные дискуссии. Его собрат по вере Меланхтон также подвергался козням. Представитель другого лагеря, Игнатий Лойола, придавал не меньшее значение дьяволу, деятельность которого описал в своих «Духовных упражнениях». Святая Тереза Авильская рассказала в своей автобиографии о непрерывных сражениях, которые была вынуждена вести. Дьявол заставлял ее испытывать сильные физические страдания: «Однажды он меня мучил на протяжении пяти часов, и я испытывала столь страшные боли, столь сильные внутренние и внешние беспокойства, что казалось, более не смогу это вынести». Изгонять бесов ей удавалось с помощью креста, а еще более действенной оказывалась святая вода. Естественно, именно дьявол виновен во всех ее сомнениях и страхах. Нередко он предстает перед ней в традиционно ужасном виде, но чаще является, не принимая видимого облика, и при этом возникает «беспричинное беспокойство, смутное ощущение, будто душа сопротивляется, смущается, расстраивается, сама не зная, отчего; ведь в том, что говорится, нет ничего плохого и оно скорее даже кажется хорошим. Я спрашиваю себя, не является ли это духом, чувствующим другого духа?» Тереза Авильская «чувствует» присутствие дьявола через то, что мы называем сегодня экзистенциальной тоской.
Согласно святому Хуану де ла Крусу, дьявол действует через чувственность, играя и запутывая чувства; в результате исчезает возможность объективно воспринимать действительность, что порождает странное душевное беспокойство. Для мистиков дьявол — это неизмеримо глубоко переживаемое ими зло жизни. Искушения и непристойные образы — лишь символы или ловушки для умов, мало продвинувшихся по пути духовного самосовершенствования. А что поистине является дьявольским наваждением — это тоска по невозможности заставить себя привести в соответствие личную внутреннюю жизнь божественному бытию, или, в экзистенциалистской терминологии, le pour-soi et l’en-soi.
Но уже в то время мистики провозгласили возможность переноса феномена дьявола в область человеческой психики. Секуляризация сатаны начинается с началом XVII века — в смутной атмосфере английских трагедий, балансирующих на границе двух миров, где дьяволу отводится строго очерченная роль — олицетворять темную сторону человеческой личности. В «Белом дьяволе» Уэбстера (1608) дурные поступки уже не приписываются зловредному сверхъестественному существу, а являются результатом отрицательных последствий, вытекающих из свойств человеческой натуры. У Шекспира дьявол чрезвычайно скромен. И Ричард III, и Макбет, и Яго ищут темные качества в себе самих. Бенджамин Джонсон в пьесе «Дьявол — осел» пользуется образом сатаны лишь для того, чтобы показать безумие людского рода, а у Марло в «Фаусте» данный персонаж олицетворяет страстное стремление индивида вырваться за пределы существующих границ человеческих возможностей.
Литературный миф эволюционирует. Пройденный путь, который завершился выходом к читателю «Фауста» Г ете, измеряется двумя столетиями. Результат трансформации фиксирует в одной из сцен сам Мефистофель: у него уже нет ни рогов, ни хвоста, а копыта скрывает обувь. Как же его теперь узнать? Теперь он Господин-Как-Все, что делает его, кстати, еще более пагубным и страшным: режиссер, актер и зритель одновременно в великой трагикомедии человеческого безумия. Гете не верил в дьявола. Однако он выявляет в природе человека материал, из которого дьявол непрерывно рождается, неизмеримо более достоверный, чем тот, который был создан средневековым мировосприятием. Дьявол претерпел метаморфозу: из идеального живого духа он стал мифом, а миф кажется тем более действенным и сильным, что сатана как личность умер. Дьявол оказался своего рода возрождающейся из пепла птицей Феникс.
Тем не менее многие верили в то, что он был убит в XVII–XVIII веках. Эразм Роттердамский считал его простой метафорой, а Декарт и Локк проявили еще больший скептицизм. Гоббс издевался «над сказочной доктриной о демонах, являющихся попросту идолами и порождением мозга; и они, не имея никакого отношения к реальности, неотличимы от таких порождений человеческой фантазии как призраки смерти, феи и другие бабушкины сказки». Вольтер даже не хочет ничего слушать на эту тему и считает дьявола лишь одним из изобретений, с помощью которых Церковь держит народ в узде. Ну а маркиз де Сад, хотя и принимает воззрения, в связи с которыми некоторых следует считать сатанинскими порождениями, однако категорически отказывает сатане в существовании. По сути же он лишь упрочил и довел до крайности определенную аристократическую моду на дебоши, которая появилась в начале XVIII века в Англии в виде «клубов адского огня», в которых предавались самым различным эротическим излишествам, пародируя религиозные церемонии.
Образ сатаны эволюционировал даже у тех, кто верил в его существование. Ужасный монстр уступил место соблазнителю, как мы это видим в искусстве. Наиболее странное изменение образа демона произошло в самой неожиданной области. Один из самых выдающихся представителей пуританской культуры, Джон Мильтон в своей поэме «Потерянный рай» (1667) создает весьма двусмысленный образ князя тьмы. Рядом с держащимся на расстоянии капризным и тираническим Богом, Люцифер — очаровательный, благородный и гордый ангел, отказавшийся склониться перед сыном Создателя. Предпочтя унижению изгнание в ад, он с успехом пользуется своей независимостью:
«У м — его подлинное средоточие; он может создать в нем Небеса из ада и ад из небес.
Желание царить соблазнительно даже в аду:
Лучше уж царить там, чем прислуживать на небесах».
Это соблазнитель: он показывает Еве запретное древо. Ведь это древо создал Бог. Так как же могут растущие на нем плоды быть плохими? Судя по всему, у этого бога тенденция к самоуправству, о которой мы и не подозревали.
Так изменился образ дьявола в XVII–XVIII веках. Для материалистов это отживший вымысел, для преромантиков — действенный литературный миф, для эпикурейцев — соблазнительный собрат по наслаждениям, для иных — непокоренный бунтарь. Возникает тенденция разрушения этого образа и замены его постоянно эволюционирующим и неуловимо изменчивым феноменом. Это опасная для Церкви эволюция, с которой она обречена была вступить в бой. Несмотря на многочисленные попытки, предпринятые в этом направлении, в частности, усилия по реинкарнации прежнего образа, предпринятые в XIX веке, метаморфоза сатаны оказалась неообратимой.