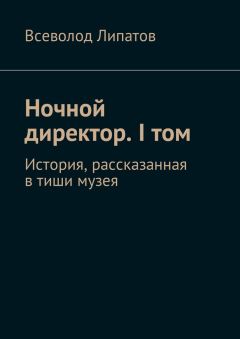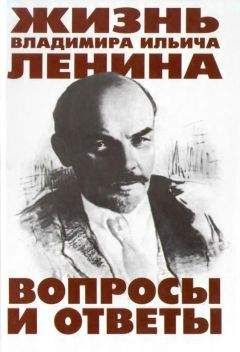Рихард Вагнер - Избранные работы
Однако в действительности, даже при наличии весьма преуспевающей активности нашего сегодняшнего поэтического мира, мы встречаемся и с той стихией, которой все поэтическое искусство обязано своим первоначальным возникновением и даже своим названием. Несомненно, сказитель и есть подлинный «поэт», по сравнению с которым более поздний формальный сочинитель рассказа может рассматриваться, скорее, как художник. Однако если уж нам приходится признать наших столь счастливо процветающих романистов настоящими поэтами, то следовало бы сперва несколько тщательнее уточнить все неизмеримо огромное значение самого этого понятия.
Древний мир знал, по существу, только одного поэта и назвал его Гомером. Греческое слово «poietes», которое латиняне, не сумев перевести, передали словом «poeta», наивно повторяется у провансальцев как «Trouvère», и оно дало нам в средневерхненемецком слово «Finder» — «тот, кто нашел»; Готфрид Страсбургский170 называет поэта, написавшего «Парцифаля», «Finder wulder Märe»[92]. Тому «poietes», про которого Платон во всяком случае утверждал, что именно он придумал эллинам их богов, предшествовал, по-видимому, «ясновидец», может быть, тот восторженный человек, который благодаря своему видению указал Данте дорогу сквозь ад и рай. Невероятный случай с их единственным — с «тем» поэтом греков заключался, по-видимому, в том, что он был одновременно и ясновидцем и поэтом: вот почему Гомера, подобно Тиресию, изображали слепым: кому боги хотели открыть не только видимость мира, но и его сущность, тому они закрывали глаза, чтобы своими прорицаниями он открыл смертным не больше того, что они могли бы доныне видеть только в мечтах, созданных заблуждением, как если бы сидели спиной к входу в придуманной Платоном пещере. Этот поэт был ясновидцем, он видел не действительное, а истинное, возвышающееся над всей действительностью; и он сумел так верно передать это жадно внимавшим ему людям, что все представлялось им ясным и понятным, будто ими самими пережитым. Это и сделало ясновидца поэтом. Но был ли он художником?
Тот, кто захочет найти у Гомера искусство, столкнется со столь же трудной задачей, как и тот, кто пытался бы объяснить рождение человека с помощью самых продуманных построений какого-нибудь, пусть хотя бы и сверхъестественного, профессора физики и химии. И все же творчество Гомера — вовсе не бессознательно сложившееся произведение природы, а нечто бесконечно высокое, быть может, самое явное проявление некоего божественного осознания всего живущего. И тем не менее Гомер не был художником; первыми художниками были, скорее, все последовавшие за ним поэты, вот почему Гомера и называют отцом поэтического искусства. Весь греческий гений есть не что иное, как художественное подражание Гомеру; ибо для этого подражания впервые была придумана и усовершенствована «techne», которую мы в конечном итоге под видом «искусства» возвели до общего понятия, в которое, не задумываясь, включаем и «poietes», и «Finder der Märe», когда говорим о поэтическом искусстве.
«Ars poëtica»[93] латинян уже может считаться искусством, от нее вплоть до сегодняшнего дня идет вся затейливость стиха и рифмы. Вполне возможно, что Данте был снова наделен поэтическим оком «ясновидящего», ибо он снова видел «божественное», хотя и не совсем ясно различал божественные образы Гомера; но Ариосто уже не видел ничего, кроме произвольных преломлений явления, в то время как Сервантес сумел в этой произвольной игре фантазии увидеть раздвоенную сущность древней поэтической души мира, и обнаруженный разлад он изображает как непреложный факт при помощи осязаемо живых действий двух увиденных в мечте образов. Должно же было — будто перед концом света — озариться «второе видение» одного шотландца171 полным ясновидением мира исторических фактов нашего прошлого, лежащих еще в документах, и он сумел так замечательно рассказать нам о них, что мы, как дети, жадно слушаем правдоподобные сказки. Однако эти исключения ничем не обязаны «ars poëtica», от нее идет все, что после Гомера выдавало себя за так называемое «эпическое поэтическое произведение», после чего настоящий источник эпической поэзии нам остается искать только в народной сказке и в сказаниях, где мы считаем его совершенно не причастным к искусству.
Все, чем в настоящее время заставлены полки наших библиотек для чтения, уже после того как прошло через газету, не имеет ничего общего ни с искусством, ни с поэзией. Пережитое в действительности ни в какие времени не могло служить материалом для эпического повествования, «второе видение» никогда не пережитого не может стать уделом первого попавшегося романиста. Один критик бросил упрек праведному Гуцкову в том, что он описывает любовные истории поэтов с баронессами и графинями, которых сам никогда не мог бы пережить; после чего Гуцков счел своим долгом отчаянно защищаться при помощи нарочито плохо замаскированных намеков на подобные якобы подлинные истории. Обе стороны этой непристойной смехотворности нашего романокропания не могут быть более наглядно представлены. Гете в своем «Вильгельме Мейстере» поступил как художник, которому поэт отказал в помощи найти удовлетворяющую развязку; в «Избирательном сродстве» элегический лирик становится ясновидцем души, но еще не образа. Но то, что Сервантес увидел глазами Дон Кихота и Санчо Пансы, предстало перед проникновенным видением мира Гете в образах Фауста и Мефистофеля, и эти только им одним увиденные образы сопровождают отныне пытливого художника как нерешенная загадка невысказанной мечты поэта, с которой он полагал совсем не художественно, но совершенно правдиво справиться в несбыточной драме.
Отсюда следовало бы извлечь урок даже и тем обитателям нашей немецкой «поэтической рощи», которыми пренебрегли недостаточно рьяные издатели. Потому что об их романах — о самых зрелых плодах их ума, к сожалению, нужно сказать, что они возникли не на жизненной основе и традиции, а из заимствований и переводов. И если ни греки в пору своего расцвета, ни римляне в пору своего величия, ни какой-либо другой народ высокой культуры в более позднее время — как-то: итальянцы или испанцы — не смогли в пережитом найти материал для эпического повествования, то для вас, мои современники, это, наверно, окажется намного труднее, ибо все, что они рассматривали как пережитый опыт, во всяком случае представало перед их взором как подлинная действительность, в то время как вы во всем, что над вами властвует, что вас окружает и что живет в вас, способны видеть только маскарад с его лоскутками заимствованной культуры и заштопанной исторической ветошью. Даром видения никогда не пережитого силы неба наделяли издавна только тех, кто в них верит, о чем следовало бы спросить Гомера и Данте. А у вас нет ни веры, ни божества.
Это — о «безыскусственной поэзии». Однако посмотрим теперь, что может предложить нам «искусство» в наши дни преуспевающей культуры.
Мы полагаем, что все создания греческого гения следует считать только искусным подражанием Гомеру, и в то же время в самом Гомере отказываемся видеть художника. Однако Гомеру был известен аэд; а может быть, он и сам был певцом? При исполнении героических песен хор юношей приступал к «подражающим» хороводным танцам. Нам известны хоровые песнопения во время ритуальных праздничных хороводов в честь богов, нам знакомы дифирамбические танцевальные хороводы на праздниках в честь Диониса. Все, что было вдохновением слепого ясновидца, здесь становится упоением восхищенного зрячего, перед опьяненным взором которого реальность явления снова преображается в божественные сумерки. А был ли музыкант художником? Я полагаю, что именно он-то и создал искусство и был его первым законодателем.
Образы и деяния, которые увидел слепой поэт-рассказчик, наделенный ясновидением, могли предстать перед очами смертного не иначе как при экстатическом снижении силы его зрения, привыкшего к восприятию только реальных явлений: движения изображаемого бога или героя должны были подчиняться иным законам, чем вызванные обычной жизненной потребностью, им надлежало быть такими, какими их могли сделать ритмические ряды гармонически организованных звуков. Весь ход трагедии подчинялся теперь уже не поэту, а лирическому музыканту: но не было ни одного образа, ни одного деяния в трагедии, которое прежде не увидел бы божественный поэт и о котором не «поведал» бы своему народу — только тогда хорег изображал их перед смертными очами человека. И люди, восхищенные волшебством музыки, обретали такое же ясновидение, каким обладал первоначальный «Finder». Из этого следует, что их ясновидение вызывал лирический трагик, а не поэт; при помощи высшего искусства, которым он владел и которое умел применять, он осуществлял увиденный поэтом мир, приводя этим весь народ в состояние поэтического ясновидения. Так «посвященное музам» искусство стало сущностью любого вдохновения, инспирированного божественным видением, и ему надлежало распоряжаться толкованием этого видения. Оно было высшим экстазом греческого духа. То, что осталось после его отрезвления, было не больше чем обломками «techne» уже не искусством, а искусствами, из которых со временем самым странным образом возникла метрика, сохраняющая схемы музыкальной лирики в зависимости от места, долготы или краткости слога, ничего уже больше не ведая об их звучании. Они дошли до нас, эти «оды» и прочие прозаические ухищрения «ars poëtica», они тоже называются поэтическими произведениями; и во все времена люди мучились, следуя этим слоговым, словесным и стихотворным схемам, полагая, что если все выглядит достаточно гладко, то — по мнению других людей, а потом и по их собственному — они в самом деле создали «поэзию».