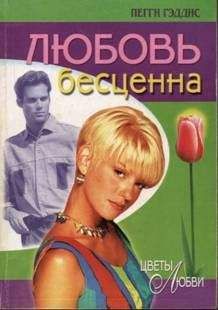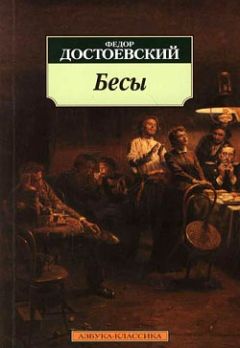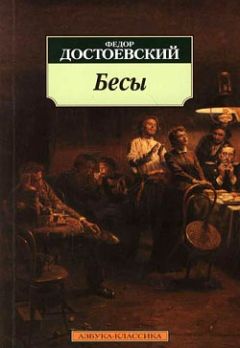Уильям Гэддис: искусство романа - Мур Стивен
Практически все образы столкновения с анимой — ночь, спуск в ад, луна, море, путешествие, имеют свои аналоги в символическом языке алхимии. Связь ночи с состоянием нигредо очевидна по названию, и уже не удивляет, что нигредо (или mortificatio) в алхимической литературе порой сравнивали со спуском в ад. (Юнг приводит несколько примеров и относит их к классической идее катабазиса.) После мужского и женского наиболее известные символы противоположностей, чья взаимосвязь способна породить духовное золото, — это Солнце и Луна. Гэддис приводит в пример алхимика «Михаэля Майера, видевшего в золоте образ солнца, сплетенного в земле бесчисленными круговращениями, — тогда, когда солнце еще принимали за образ Бога» (адаптировано из Юнга). Леверенс отмечает: «Фундаментальная алхимическая предпосылка заключается в том, что все металлы созревают до чистейшего золота», — вот еще одна метафора процесса, который представлялся и как путь совершенства к Царству Божьему, и как путешествие через семь небес гностицизма, и как аристотелевская энтелехия, и как идеал, воплощенный в Ангеле Рильке, и как юнговская интеграция личности. Алхимики наделяли и Луну разными ролями и свойствами; Юнг противопоставляет мужское/солнечное сознание женскому/лунному, и легко понять влечение Уайатта к последнему, потребность в нем: «Его (бессознательного) свет — это «мягкий» лунный свет, который соединяет вещи в большей степени, нежели разъединяет их. В отличие от сурового, ослепительного света дня, этот свет не выставляет объекты в их безжалостной разобщенности и разделенности, но смешивает в обманчивом мерцании близкое и далекое, магически трансформируя малое в большое, высокое — в низкое, смягчая все цвета и превращая их в синеватую дымку, незаметно делая ночной пейзаж чем-то единым». «Отдельность, вот что пошло не так, ты поймешь… — признается Уайатт в конце романа, достигнув лунного сознания. — Все удерживается от всего остального…» Цель Уайатта, как и у алхимика, воссоединение и синтез психических противоположностей, и Гэддис следом за писателями-алхимиками показывает путь к интеграции с помощью образов Солнца и Луны, за которыми находятся множество противоположностей, борющихся за объединение в психике Уайатта: преподобный Гвайн/Камилла; Солнце/Луна; sol (золото)/luna (серебро); Логос/Эрос; христианство/язычество, сознательное (рациональность)/бессознательное (иррациональность); разум/интуиция; разделение/объединение; активность/пассивность; интеллект/эмоции; день/ночь [99]; и так далее.
Как утверждает Юнг, море тоже считается известным образом в алхимических текстах, иногда символизируя prima materia («основа для приготовления философского золота»), а иногда нигредо, но всегда — «символ коллективного бессознательного, потому что бездонные пучины скрыты под его поверхностью». Арислей, один из участников диалога Turba Philosophorum, в другом месте «рассказывает о своих приключениях с Rex marinus [морской царь], в чьем царстве ничего не процветает и ничего не порождается. Более того, там нет философов. Лишь подобное сочетается с подобным, поэтому не существует размножения». Эти «бесплодные земли» моря упоминаются и в другой алхимической литературе и параллельны миру «Распознаваний» (объясняя «пелагийскую атмосферу») с его бесплодием, гомосексуальностью и заметным отсутствием философов. (Фауст тоже становится правителем морского царства.) Но океан — и средство очищения, восстановления. Гомункул из «Фауста» решает соединиться с океаном, чем символизирует слияние мужского и женского и завершает свой поиск «материальности» [100], ровно как и Уайатт — Гомункул Гэддиса в его «боп-версии» «Фауста» — достигает цели, символически утонув в море во время столкновения с женским началом [101].
Наконец, уже неудивительно, что в поиске метафор алхимики сравнивали свой труд со странствием. Эта сторона opus alchymicum называлась peregrinatio и чаще всего ассоциируется с сочинениями Михаэля Майера со сто тридцать первой страницы «Распознаваний», который «представлял opus как странствия или одиссею, подобно путешествию аргонавтов за aurum vellus (Золотым руном), столь излюбленным алхимиками. Эта тема фигурирует в названии многих трактатов». У Майера, как и у Уайатта, «цель его путешествия — достижение этой целостности»; случайно или нет, но четвертую и финальную стадию путешествия Майера — стадию, что Юнг ассоциирует с бессознательным, представляет Африка, и точно так же Северная Африка — последний континент, который Уайатт посещает перед тем, как осесть в Испании.
То, что Гэддис предпочел главным двигателем темы искупления алхимию вместо религии, может поначалу показаться мракобесным. Но, как подтвердят бесчисленные уничижительные замечания в сторону христианства в романе, Гэддис чувствует, что церковь потеряла свою исконную цель и деградировала в не более чем дисциплинированное суеверие. Таким образом, христианство относится к церковному духу, как химия — к алхимии: современный прогресс искоренил истинное значение духовности. Джек Грин указывает, что в «Распознаваниях» «считается очевидным, что языческая религия и алхимия превосходят современную религиозность и химию смыслом, значением, эмоциональной страстью» [102]. И в поисках спасения Уайатт обращается к алхимии, а не христианству. Важное различие между ними в том, что алхимия показывает «человека одновременно и как нуждающегося в искуплении, и как искупителя». В понимании Юнга это означает: «Первая формулировка христианская, вторая — алхимическая. В первом случае человек уступает необходимость своего спасения автономной божественной фигуре и предоставляет ей процесс искупления […] во втором — человек берет на себя обязанность нести искупительный opus», что возвращает и к Пелагию — приверженцу активного участия в своем спасении, и к идее самодостаточности Торо/Эмерсона, которую воплощает Уайатт (и которую Эстер путает с эгоизмом).
Бэзил Валентайн сказал бы «Уилли, что спасение — совсем не то практическое исследование, каким было» в Средние века, но Гэддис, очевидно, нашел подходящее спасение — пусть даже секуляризированное, в виде интеграции личности, которая и служит темой его романа [103], а в алхимии — ближайшую параллель с работой во имя искупления. Наиболее успешная форма секуляризации спасения в «Распознаваниях» — искупительная сила искусства. Спасение через любовь женщины или к ней в лучшем случае представляет собой устаревшее, двойственное средство поиска искупления, — тут Гэддис приводит в пример такие произведения девятнадцатого века, как «Летучий Голландец» и «Пер Гюнт». Но создание неподдельного произведения искусства похоже освобождает от любой двойственности. «Творческий процесс — это труд художника во имя собственного искупления», — заявляет Гэддис в своих записках, и по этой причине искусство в «Распознаваниях» наделено религиозной важностью.
Юнг пишет, что «истинная алхимия никогда не была бизнесом или карьерой, это был подлинный opus, который достигался скромным самоотверженным трудом», и отношение алхимиков к их труду напоминает, по мнению Гэддиса, отношение настоящего художника — к искусству. Истинные алхимики «не уставали от наслаждения новинками искусства — та вера, писания и добродетельность были наиболее важными требованиями для алхимического процесса» [104], и сам Уайатт цитирует изречение «Amor perfectissimus» [105]. Согласно Юнгу, это термин алхимика Морьена, который он использовал для описания правильного отношения адептов к труду. В «Распознаваниях» единственными творцами с таким отношением к своему искусству оказываются Стэнли и, что странно, Фрэнк Синистерра. Отношение же Уайатта следует рассмотреть внимательней. Он настолько одержим правильным взглядом на творчество, что, похоже, забывает, что создает подделки. Более того, он хвастается перед Брауном, как сильно он вошел в образ художника XV века: