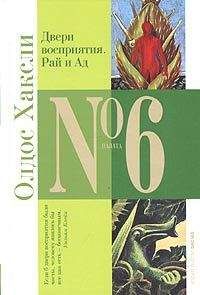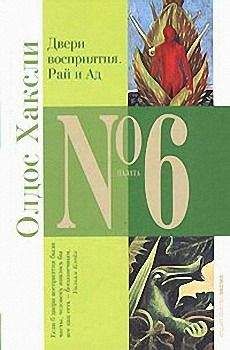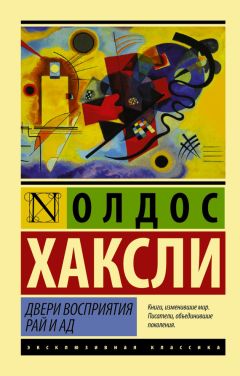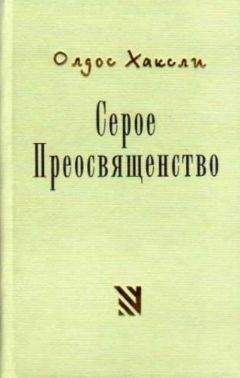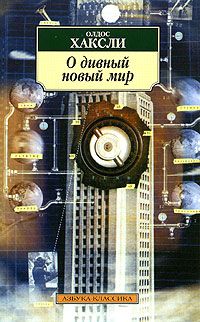Александр Николюкин - Литературоведческий журнал №30
Соловьёв противоречит себе. Только что он утверждал в статье о лирической поэзии, осмысливая стихи Фета, что солнечный шар зажжен над мирозданием по воле Господа, и заслуга лирического поэта в прозрении этой светлой-святой основы бытия и человеческой души. Но в статье о Тютчеве он заявил о ценной самобытности поэта в его указании на «темный корень» мира и самой души, в которой увидел «злую жизнь». Философ будто не замечает слов поэта о «сиянии души», ее «взлетах», «прекрасных» душевно-духовных образах, хранящихся в тайниках души, о чистых ключах, бьющих в ней, о горящих и в ней звездах.
Если «корень» бытия темен и демонически безобразен, вряд ли из него произрастает что-либо светлое и прекрасное. Неудачную метафору («корень») нашел философ, утверждающий конечную победу света и красоты над тьмой, гармонии над безобразием хаоса. Неудачно, без достаточных оснований он применил скорее метафорическое суждение к поэзии Тютчева, не содействуя выяснению сути близости двух классиков русской лирической поэзии, их взаимного «обожания» или «сочувствия», поэтов, воспевших красоту Божьего мира, «сияние» его и самой человеческой души. В такой возвышенной, восхищенной любви к Матери-Природе, созданной Всевышним ради тварей земных и, прежде всего, человека, – в любви и заботах о ней так нуждаются и современные люди!
ФЕТ-ПЕРЕВОДЧИК
Фет в лучшие свои минуты выходит из пределов, указанных поэзии, и смело делает шаг в нашу область…это не просто поэт, скорее, поэт-музыкант, как быизбегающий таких тем, которые легко поддаютсявыражению словом.
П.И. Чайковский
АннотацияВ статье рассматриваются основные принципы переводческой деятельности русского поэта. Проанализированы взгляды Фета на задачи переводчика, раскрыта его концепция художественного поэтического перевода. Фет выдвинул требование точного и максимально близкого к оригиналу перевода, заложив основы новой школы в русской традиции. В статье исследуются преимущественно переводы Фета с немецкого языка, к которому поэт обращался наиболее часто.
Ключевые слова: лирика, поэзия, перевод, переложение, буквализм, оригинальный текст, русификация, баллада.
Kozin A.A., Strelnikova A.A. Fet the translator
Summary. The article reviews the basic principles of the Russian poet's translating activity and analyses his views on the translator's goals and his vision of literary translation. Fet put forward an idea of precise and close to the original translation, thus laying the foundations of a new school in the Russian tradition. The article focuses on Fet's translations from the German language.
Сколько бы ни писали о лирике, тема не будет и не может быть исчерпанной. Весьма тонка грань, слишком нежен материал, долженствующий стать предметом анализа, методы и средства которого по сей день остаются несовершенными, грубыми, а порой и примитивными. Особенно это касается переводной поэзии, требующей не только осмысления, но постоянного обновления, переложения, в первую очередь в текстовом плане. Поэтический текст, переведенный с другого языка, звучит по-разному в зависимости от автора перевода и времени, в которое данный перевод выполнен. Можно смело сказать, что переводная поэзия есть иллюстрация развития языка народа, восприятия им ценностей, его эстетического вкуса.
Фет, прославленный и всеми признанный как музыкальнейший лирик, немалое внимание уделял и переводам зарубежной поэзии. Плавт, Катулл, Вергилий, Гораций, Ювенал, Проперций, Марциал, Овидий, Тибулл, Шекспир, Гёте, Гейне, Шопенгауэр, Хафиз обрели в лице Фета старательного и вдумчивого посредника, проводника их творений в русскую культуру. Наследие Фета-переводчика вполне может явиться материалом для солидного научного труда. В данной же статье мы коснемся только некоторых нюансов, характеризующих Фета как переводчика поэзии.
Как переводчик Фет сильно выделяется из среды своих собратьев. Выделяется не только тем, что брался переводить поэзию с различных языков народов самых разных культур, верований, эпох, менталитета. Фет по-своему уникален неровностью качества своих переводов, а также тем, что ни один из его переводов не достигал своей мелодикой уровня собственной лирики поэта, музыкальность которой высоко оценивали не только литераторы, но и профессиональные музыканты. Зачастую, взяв тот или иной текст зарубежной поэзии, созданный Фетом, ловишь себя на мысли: «Это не Фет!» Редко кто из лириков, сочетающих в себе дарование поэта и переводчика, заслуживает подобной оценки. Это ни в коей мере не значит, что Фет был посредственным переводчиком. Здесь-то и выявляется уникальность Фета – в переводах Фет далеко не всегда оставался Фетом. Пытаясь вникнуть в текст, чтобы по возможности точно передать его на русском языке, он жертвовал всем тем, за что его хвалили и что заставляло восхищаться его поэзией. Фет-лирик и Фет-переводчик – две различные величины. Такие же полярные, как Фет-поэт и Фет-человек.
Все друзья и знакомые отмечали эту разницу, которую наиболее ярко выразил П.М. Ковалевский: «Плотный, с крупным носом на толстом лице, крошечными светлыми глазками, держался прямо и выступал твердою военною поступью. На нём было серое офицерское пальто… <…> Кого угодно, только не автора изящнейших и воздушных стихов ожидал я увидеть в таком воплощении»1. Приблизительно такое же разочарование вызывали переводы у читателей, знакомых с его собственной лирикой.
Известно, что этот нежный лирик вне поэзии сочетал в себе рачительного, трудолюбивого и дотошного хозяина, каковым он проявил себя в Степановке, и энергичным, если не сказать истеричным, полемиком, которого в спорах могло «занести» в самые невообразимые крайности. А.В. Дружинин, будучи почитателем стихов Фета, отмечал в своем дневнике: «Что за нелепый детина Фет! Что за допотопные понятия из старых журналов, что за восторги по поводу Санда, Гюго и Бенедиктова, что за охота говорить и говорить ерунду! В один из прошлых разов он объявил, что готов, командуя брандером, поджечь всю Англию и с радостью погибнуть! “из чего ты орёшь!” – хотел сказать я ему на это»2. Разрушают ли такие несоответствия единый образ поэта? Ни в коем случае. Напротив, это говорит о его уникальной индивидуальности, мощной интуиции, в том числе и политической – в частности, и по поводу англичан, пожалуй, самых коварных врагов России – откровенности, честности, совестливости и в то же время заурядности. Фет – истинный поэт. Таковым он остается и в своих переводах.
Ко времени расцвета переводческой деятельности Фета русская словесность уже имела богатый опыт переложения текстов зарубежной поэзии на русский язык. Период формирования и становления русской переводческой традиции остался далеко позади. Ознаменованная именами Кантемира, Державина, Сумарокова, Карамзина, Ржевского, русская переводческая практика достигла блистательных результатов в лице Жуковского. Но точка на этом развитии поставлена не была. Переводы, выполненные поэтами первой половины XIX в., в том числе Пушкиным, Лермонтовым и др., все еще напоминали практику XVIII в. Как правило, речь шла не о переводах в том смысле, как это понимается сегодня, т.е. о переложении стихотворного текста с одного языка на другой с соблюдением стихотворной метрики, рифмики, архитектоники и внутреннего содержания, а о подражаниях, мотивах и пр. То есть передачи определенного настроения, интонации, иногда ритма. При этом переводчик был абсолютно свободен в интерпретации внутреннего содержания стихотворения, в том числе и в способах передачи его ритма и рифм. Подобного рода переводы были скорее собственными плодами вдохновения поэтов, обратившихся к зарубежным текстам. Возможно, в силу этого в XVIII в. в российской переводческой практике не было принято упоминать имена авторов, чей текст был выбран для перевода. Лишь к 30-м годам XIX в. возникла тенденция стремления к полексемному переводу, которая была обозначена в трудах Гнедича и Жуковского, соответственно в «Илиаде» и «Одиссее». Но и эти великолепные произведения, как было отмечено критиками, в иных местах «грешат» всякого рода неточностями. Даже если взять одно из самых ярких переводных произведений того времени (первая треть XIX в.) – «Ленору» Г.А. Бюргера, выполненную Жуковским, то следует сказать, что после «Светланы» и «Людмилы» «Ленора» Жуковского звучит по-русски не только в смысле языка, но и в плане напевности, характерной для славянского фольклора и русской романтической лирики. «Lenore» Бюргера отрывочней, дискретней, жестче, образы ее конкретнее, натуралистичнее, приземленнее. Практика полексемного перевода только набирала силу и опыт. Буквалистские тенденции, провозглашенные и разрабатываемые П.А. Вяземским и М.П. Вронченко, еще не имели степени законности, признанности. Но все больше поэтов склонялось именно к такому типу перевода. Фет был в их числе.
Фет не шел по пути упрощений, русификации. Переводческую деятельность поэт считал настоящей работой – трудной, ответственной, требующей точности, какой бы ценой она ни давалась. Фет был убежден, что буквальность в передаче смысла и формы поэтического произведения является критерием честности и добросовестности переводчика, показателем его мастерства, его способностей. Вариант вольных переводов и переложений был для него совершенно неприемлем: «Подражают как хотят, а переводят, как могут», – писал Фет3. Он много размышлял над теорией перевода. В своей статье «Проблема переводимости» Фет указывал на губительные последствия переводческого субъективизма и стремления к личностному поэтическому самовыражению, потому что «поэт невольно вместе с цветком слова вносит его корень, а на нем следы родимой почвы»4. Так рождается целый ореол «родных» ассоциаций, звуков, настроений, все дальше уводящий нас от оригинала. Фет осознавал, что следование такой теории может вести к искажению норм русского языка. Но искажение всей атмосферы и смысла стиха казалось ему более серьезным прегрешением перед поэзией. Так, настаивая на языковой «чистоте» перевода, Фет приводил в пример гомеровский эпитет, обозначающий льва и воспроизводимый по-русски примерно как «горородный». <…> я, – писал Фет, – несмотря на такое насилие [над русским языком. – Прим. наше], всегда предпочту встретить “горородный” вместо “рожденный в горах”»5. Однако нужно учитывать, что Фет был увлекающимся и запальчивым полемистом и не во всем буквально следовал своим теориям.