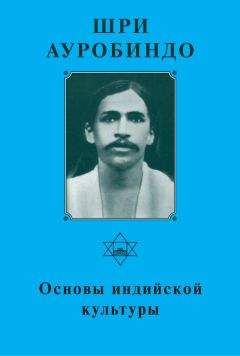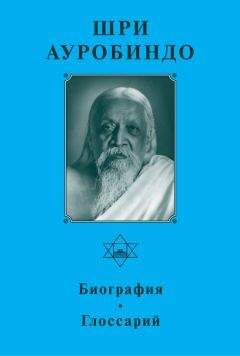Михаил Гершензон - Избранное. Тройственный образ совершенства
Но и этим обычно не довольствуется человек. Умертвив создание и разрушив его личную форму, он смешивает разъятые части мертвого тела с такими же разъятыми частями многих других природных тел, совершенно отличных от первого. Он из частиц многих убитых им разнородных индивидуальностей приготовил жидкую смесь – политуру и покрыл ею доски; чтобы изготовить обои, он взял по пригоршне частиц от множества разнообразнейших некогда живых природных тел и перемешал их по своему произволу. Этим смешением обезличение природных тел доводится до предела, потому что в обрубке дерева и в доске еще отчетливо узнавался по крайней мере вид – ясень, но в полированном столе узнается уже только род – дерево, наконец, в обоях, также сделанных из дерева, нельзя узнать уже ни личности, ни вида, ни даже рода какого-либо из многочисленных природных созданий, которые были закланы на изготовление этого куска обоев. Из таких смесей, из перетасованных до совершенной неузнаваемости, взаимно обезличивших друг друга кусков умерщвленной природы, создано почти все, что нас окружает, – наша материальная обстановка, орудия, одежда и пища.
5. – Ненасытная алчность толкает человека проникать в недра природы и отыскивать глубоко в ее живых созданиях частицы общей им и ему субстанции. Разум – оружие его завоеваний; и тот же разум учит его снова замыкать эти освобождаемые им силы в прочные формы, на этот раз – в человеческие, в формы вещей. Разрушая природную организацию, разум заменяет ее своею; человек мыслит: «Этот пучок природных сил я сам, насколько умею, изъемлю из оборота природы. Я узнал себя в них, я освободил их, и ныне да примут они мой образ, чтобы служить мне наравне с моими членами, которые уже от природы – я». Значит, изготовлением вещей человек тормозит непрерывное действие мировой антиномии: вместо того чтобы природные силы, освобождаясь из индивидуальных природных форм, сразу или вскоре переходили в новые такие же природные образования, он, освобождая, насильственно задерживает их в своем обладании, как бы в награду себе за труд их освобождения. Он сочетает их по своему смыслу, и тем кладет на них клеймо собственника – разумеется, только на время, так как вполне изъять их из ведения природы невозможно; они постепенно распадаются из состава, запертого человеком в вещи, и возвращаются в мировую жизнь. Итак, в производстве вещей человек следует всеобщему закону, который велит каждому неделимому{101} в меру данных ему средств разрушать другие неделимые и присваивать себе часть их жизненной силы. Первоначальный и простейший вид такой разрушительной деятельности и такого временного захвата – питание. Производство вещей есть также род питания: узаконенное природою убийство с целью грабежа и временного пользования.
6. – Но в силу той же основной антиномии человек встречает в своей работе двоякое препятствие. Природа повелительно требует от него убийства и в то же время ревниво затрудняет ему убийство, снабжая всякое создание, на какое ему дано посягнуть, тысячью оборонительных средств; прежде чем добраться до нужных ему элементов в чужом теле, он должен разрушить не одну, а множество скорлуп, которые все заключены в личной форме. Эта разрушительная работа есть труд, то, что трудно. Труд быку срывать и разжевывать траву, и великий труд человеку умертвить и размельчить несчетное множество природных созданий, чтобы создать вещи. Далее, хотя человек не ответствен за свои убийства, ибо исполняет ими веление Единой Воли, но в самом этом велении он постигает свое единство с жертвою: «она единородна тебе; ты окрепнешь ее кровью именно потому, что ее кровь тождественна твоей». Рука, невольно заносящая топор, медлит; стыдно и страшно взглянуть в лицо обреченному брату. Поэтому первый акт разрушения, именно разрушение личной формы, мучителен. Это чувство особенно сильно в первобытном человеке, потому что он еще знает каждое создание как единственную и самобытную личность. Оттого оджибуэй слышит стон дерева, срубаемого без цели; оттого кафр, убив слона, извиняется, говоря, что это случилось нечаянно; оттого коряк{102}, убив медведя, просит прощения у трупа, слагая вину на железный капкан или ружье, сделанные русскими; оттого древний Санхониатон{103} говорит о первом поколении людей, что они поклонялись травам, которыми питались. Потому что в убийстве ради питания есть не только верховная принудительность, но есть и свободное решение убийцы, есть его корысть и выбор. Эту несправедливость сохранения своей личной формы ценою разрушения чужой ощущает первобытный человек; за этот грех, думает он, придет душа убитого животного мучить его. Мы уже почти не чувствуем индивидуальности в живом создании природы; но все же древнее чувство еще не совсем угасло в нас, и убийство нам тем страшнее, чем больше личная форма жертвы похожа на нашу. Разрушение дальнейших оболочек, видовых и родовых, сопряжено все с меньшим стыдом, и стыд умаляется по мере удаления от личной формы вглубь вещества.
7. – Напротив, вторая часть задачи, следующая за разрушительной работой, – формировка человеческих вещей – соединена с высоким чувством, с гордым самосознанием разума. Однако труд и здесь не менее велик. Воля материи неистребима, даже в атоме еще сохраняется могучая сила инерции, жажда покоя. Как бы ни обработал человек вещество, оно все-таки противопоставляет его творческому замыслу по крайней мере свою косность; и даже если бы оно пожелало добровольно выйти из своей неподвижности, оно не знало бы, куда человек желает его направить. Поэтому творчество требует новых усилий, чтобы сдвинуть вещество и указать ему должное место. Усталостью этих последних усилий была рождена в Древней Греции мечтательная ложь об Орфее{104}, который звуками своей лиры заставил камни сложиться в стену. Но и игра на лире – еще усилие; так даже в мифе человек не смел мечтать о том, чтобы вещество добровольно и сознательно следовало велениям человека.
8. – Природа поставила труд условием потребления; только в совокупности обеих частей исполняется ее двуединый закон. Но человек хитрым разумом измыслил способ обходить закон. Он рано заметил (отчасти это знают уже животные), что можно облегчать свой труд, натравливая родовые силы одного природного тела на другое. Это коварство и положено им в основание техники: его основное правило – отыскивать в самой природе такие пучки сил, которые умели бы по его желанию превозмогать личную, видовую, родовую самозащиту неделимых, так, чтобы в непосредственной борьбе изнашивались они, рабы, а не он, ему же оставался бы только сравнительно легкий труд командования ими. Когда человеку нужно преодолеть волю дерева, заключенную в сцеплении его частиц, он не раздерет дерево своими руками: это трудно. Он отыщет в природе такое создание, которое таит в себе власть как раз над сцеплением древесных частиц, и он прежде всего вырвет это создание из общего состава природы, чтобы сделать его покорным себе, потом вытравит из него лишние видовые и родовые силы, сохранит лишь те, которые пригодны для данной цели, приведет их в целесообразный порядок и тогда пошлет эту небольшую рать сил – топор – в нужном направлении войною на дерево; и лезвие топора действительно легко побеждает волю дерева. Но и эти действия над железом он так же совершает не лично, а через посредство многих других порабощенных им природных сил, – и так далее назад до бесконечности. Именно этой «хитростью разума»{105} человек всегда и всюду побеждает природу: искусно возбуждая в ней и направляя междоусобия. Он заставляет останки одного трупа из последних уцелевших сил нападать на останки другого и останки третьего, четвертого, пятого – на останки тех двух, пока в их взаимной борьбе не уцелеет лишь нужное ему сочетание частиц. Всякое человеческое орудие есть пучок целесообразно сохраненных и приспособленных природных сил, и производство представляет собою многочисленную иерархию орудий, в строгой последовательности воздействующих одно на другое и по нескольку на одно, пока не достигается конечная цель, предумышленная человеком.
9. – Но чтобы превратить природную силу в послушного исполнителя, в орудие, необходимо прежде всего лишить природное тело, в котором она заключена, его индивидуальной воли. Наименьшее, чего требует человек безусловно от всех созданий, обращая их в орудия, – отречение от личной воли; далее же он обезличивает их в разной мере, смотря по служебной задаче, какую он ставит им. Где ему важно сохранить и динамическую силу создания, он оставляет последнему жизнь, ограничиваясь только подавлением личной воли; в других он погашает все личные признаки, то есть смертью разрушает их личную форму, и так далее, до погашения всех признаков личности, вида и ближайших родов, так что сохраняются только общие физико-химические свойства вещества. Пашущий вол есть такое же орудие человека, как вилы и дубильная кислота: в нужной степени обезличенный и приспособленный посредник между человеком и самостоятельностью природных тел. Весь труд борьбы с их самозащитою несет посредник, который и расходует свою энергию в этой борьбе, человек же присваивает себе плоды борьбы, то есть уцелевшие по его замыслу силы побежденных тел.