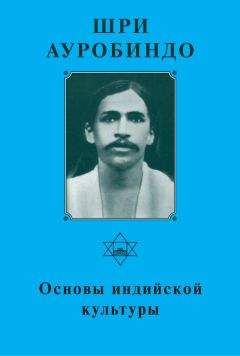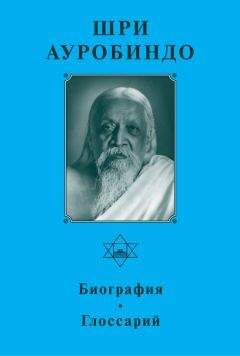Михаил Гершензон - Избранное. Тройственный образ совершенства
Об обстоятельствах возникновения «Переписки…» рассказывает В. Ходасевич, бывший – если так можно выразиться – ее «очевидцем», в мемуарной статье «Здравница (Из московских воспоминаний)»:
«Летом 1920 года я прожил в этом убежище около трех месяцев. В то время оно еще называлось “здравницей для переутомленных работников умственного труда” впоследствии – дом для престарелых деятелей медицинской науки>. Впрочем, уже тогда здравницу предполагалось обратить в такое постоянное убежище для медиков.
В здравницу устроил меня Гершензон, который тогда сам отдыхал в ней так же, как Вячеслав Иванов. Находилась она между Плющихой и Смоленским рынком, в 3-м Неопалимовском переулке, в белом двухэтажном доме. Внизу помещалась обширная столовая, библиотека, кабинет врача, кухня и службы. Вверху жили пансионеры. Было очень чисто, светло, уютно. Среди тогдашней Москвы здравница была райским оазисом.
Мне посчастливилось: отвели отдельную комнату. Гершензон с Вячеславом Ивановым жили вместе. В их комнате, влево от двери, стояла кровать Гершензона, рядом – небольшой столик. В противоположном углу (по диагонали), возле окна, находилась кровать и стол Вячеслава Иванова. В углу вечно мятежного Гершензона царил опрятный порядок: чисто постланная постель, немногие, тщательно разложенные вещи на столике. У эллина Вячеслава Иванова – все всклокочено, груды книг, бумаг и окурков под слоем пепла и пыли; под книгами – шляпа, на книгах – распоротый пакет табаку. Из этих-то “двух углов” и происходила тогда известная “Переписка…”. Впрочем, к моему появлению она уже закончилась. Гершензон вскоре и вовсе покинул свой угол, а несколько позже и Вячеслав Иванов» (Возрождение. Paris, 1929, № 1381, 14 марта. С. 3).
Из других обитателей «здравницы» Ходасевич вспоминает Ю. А. Бунина (брата писателя), профессора Н. Н. Фирсова (историка, специалиста по «пугачёвщине»), Л. И. Аксельрод-Ортодокс. Но, пожалуй, самой примечательной личностью была престарелая вдова Сеченова Мария Александровна, послужившая в свое время прообразом Веры Павловны Лопухиной в «Что делать?» Чернышевского. Она, таким образом, дожила до того времени, когда ее знаменитые «сны» стали сбываться наяву, но она – как саркастически замечает Ходасевич – «до девяноста четырех лет осталась верна несложным идеям юности». О своем визите в «здравницу» к Вяч. Иванову вспоминал многие годы спустя М. М. Бахтин (см.: Беседы В. Д. Дувакина с М. М. Бахтиным. М., 1996. С. 77–80). Одним из первых, кто откликнулся на «Переписку», был писатель Евг. Лундберг, посвятивший ей критическую заметку «К кризису культуры» (он читал ее берлинское издание 1922 г.). Он писал: «“Переписка из двух углов” М. О. Гершензона и В. И. Иванова – редкая по внутренней и внешней прелести благоухания книга. Чтобы понять по-настоящему ее прелести – надо знать современную Россию, в ее темным быте и в ее светлом напряженном духе. Надо знать, как жили и живут в ней писатели и чего им стоило сохранение отвлеченных своих интересов и мыслительной свободы. Здравница. Это значит – силы на исходе. Где-нибудь под Москвой, в сосновом бору – общежитие. Не слишком обильное питание, и комфорт, и чистый воздух, и тишина. В одной комнате, в разных углах, постаревшие, усталые, аскетического вида, отдыхают – утонченнейший русский поэт и талантливый историк литературы. Пригрело солнце, напоил усталые легкие сосновым духом бор, быстрее потекла кровь в жилах – и опять мысль, игра мысли, и опять очи горе, как в дни юности, как в дни расцвета, как в ночные часы труда, как во все часы и дни творческой писательской жизни. Неугомонные. Сильные в своей слабости. Верные в своих духовных скитаниях. Все те же и те же среди исторических и личных катастроф, которых всем им выпало не мало. Для тех, кто знает русскую жизнь и русских литераторов, – “Переписка из двух углов” чудесный, волнующий, радующий и болезненно пронзающий документ. Это книжка, которую должны узнать и иностранцы.
Мысли все об одном – о кризисе культуры. О нем писал Ал. Блок в гениальной своей статье “Кризис гуманизма”. Ему посвятил А. Белый три своих книжки – кризис слова, сознания и культуры. Петербургская Вольфила с Ивановым-Разумником и Эрбергом во главе посвящала ему свои заседания… И отогревшиеся, ожившие В. Иванов и М. Гершензон переписываются о ней. И странное дело – историк и – по крови – носитель тысячелетней культуры еврейского народа, М. О. Гершензон в отрицаниях своих проще, здоровее и отчетливее, чем поэт и славянин Вяч. Иванов. Поэт ищет еще примирений. Большой знаток красоты мировых идей, гость многих станов, культурнейший человек среди представителей русской литературы, человек религиозный, если судить по писаниям его, умеющий легко отбрасывать соблазны временного – Вяч. Иванов, пройдя жестокую школу современности, не хочет еще остановиться, пытается продолжить философические скитания свои, прикоснуться к революции, как некогда прикоснулся он к Греции и Германии, и идти дальше – к восстанавливаемой культуре, притом восстанавливаемой так, чтобы ничто из прежних сокровищ не было потеряно и ничто не было сдвинуто с сужденных ему мест. Гершензон же твердо и упрямо остановился на одном, основном своем по отношению к культуре переживанию, и не хочет сдвинуться с места. Так есть, так и должно быть, говорит он, и готовится к разрушению. Пусть падает старый мир – пусть падает, ибо стоять он не может.
<…> Вяч. Иванов отвечает на это превосходною по форме тирадою, в которой бережливость к культуре сочетается с воспоминаниями о лирических радостях от нее, о вдохновениях, ею внушенных <…>
В словах Гершензона знаменательна воля к полному освобождению от заслуг и знаний вчерашнего дня. Ничего, ничего, – только легко вздохнувшее освобожденное я. Раньше всего – нагота, и только потом оглянуться вокруг себя, и узнать что есть, что может быть. Этой воле Гершензона к освобождению от культуры и преемственности В. Иванов противопоставляет свой скепсис – скепсис учившегося человека. Преемственность нам не навязана извне условиями, говорит он, она не от европейской культуры, она – в нас, иначе мы не умеем ни жить, ни думать. И искать освобождения от нее надо не в изменениях внешних условий, а в росте и в превращениях духа. Гершензону такая история ближе, чем В. Иванову. Если пали государства и похитилась культура, говорит он, значит – так надо было. И человек пусть идет в ногу с историей, и человек пусть отрывает от себя привычные и так намозолившие тело блага. Человек и история – одно. Уроки истории должны раньше всего отразиться в крошечном человеческом зрачке.
В. Иванов отделяет себя от истории и себя, бессмертного человека, от бытия. Христианский дуализм – тот самый, который делает современный перелом таким осложненным, раздвоил его художническое зрение и, оставляя за личностью право на обладание вековечным смыслом, он в пределах исторических событий делает этот смысл сомнительным. Ибо, если преемственность неизбежна, как горб верблюда, и преодолеть ее можно только изнутри, то, значит, не хорошо историческое бытие, хорош единовременно дух человеческий, носитель правды, познания и роста. В. Иванов хочет не расти вместе с историей, а вырастать из истории, двигаться не вместе с просыпающимся к бытию хаосом, а скользить поверх его, в индивидуальном своем, отрешенном от тела, аскетическом кристалле. На это ему и отвечает Гершензон с нарочитою своею грубоватостью: “Ваш угол – тоже угол, замкнутый стенами – свободы в нем нет”» (Накануне. Литературное приложение № 7 к № 62. 1922, 11 июня. С. 10–11).
Диаметрально противоположную по отношению к Лундбергу позицию в споре между Гершензоном и Вяч. Ивановым заняла М. Цветаева. Она – всецело на стороне Вяч. Иванова: «Когда читаешь “Переписку” Вячеслава Иванова с Гершензоном, – писала она в статье “О переписке из двух углов”, – этот аристократизм, эта незыблемость ивановской мысли становятся вполне очевидными. Гершензон вьется, змеится, бьется вокруг нее, всячески подкапывается, но внутрь не проникает. Кроме того, не ясно ли, что в этой книге мелодия дана и все время ведется Вячеславом Ивановым. Гершензону же остается только аккомпанировать, да и то по нотам Шестова» (Благонамеренный. Журнал русской литературы и культуры. Брюссель, 1926. Кн. II. С. 133–134). Прочитав заметку Е. Лундберга, М. О. Гершензон в письме к Л. И. Шестову от 26 июня 1922 г. писал: «Насчет “Переписки” ты заметил тонко и верно: тон голоса Вячеслава] И[ванова] определил и мой; оттого меня коробит от этой книжки: это тон кантилены, – пенье зажмурив глаза, что мне, кажется, совершенно чуждо. На днях я прочитал в “Накануне” статейку Лундберга об этой книжке. Он воображает: сосновый бор, здравница с некоторым комфортом, и т. под. Нет, это была тесная, грязная, без малейшего комфорта и с плохой едой (однако много лучше домашней, которая тогда была – голод) здравница в 3-м Неопалимовском пер. Грязно, душно, тучи мух, ночью шаги в коридоре к уборной, на окне занавески нет, матрац – как доска, – и духота; я там переночевал только первую ночь, а после – благо близко – ходил туда только обедать и ужинать, 2 раза в день. А В.И. там жил, потому что весь день был в Театральном] Отд[еле], а вечером – лекции, и спал он крепко. Начал переписку он, и стал понуждать меня ответить ему письменно. Мне было неприятно, потому что в этом есть театральность, и я был очень слаб – не было никакой охоты писать. Но он мучил меня до тех пор, пока я написал. Потом все время он отвечал тотчас, а я тянул ответ по много дней, и он пилил меня; а мне не писалось. Оттого под его письмами всегда есть дата, а под моими нет; напишу начало, оно лежит 5–6 дней, он пристает, и наконец допишу. Я это время все лежал и читал Нансена. По моему настоянию и прервали на 6-й паре; он хотел, что бы была «книга». А тут уж у него завертелось: B[epa] Конст[антиновна] умирала <умерла 8 августа 1920 г.>; нам не пришлось даже сряду перечитать наши листки разного цвета и формата (бумаги тогда нельзя было достать, писали на клочках), ему – потому что было не до того, а я не мог исправлять свои писания, раз он не исправляет и не учтет моих поправок. Так и сдали издателю (чтобы получить гроши гонорара) неперечтенные черновики. Корректуру мне прислали, когда В.И. был уже в Баку, и я потому же ни йоты не мог изменить. Ежели Б[орис] Федорович] <Шлецер> пишет о Переписке, ему надо бы принять во внимание “Тройственный образ совершенства”, с которым мои письма теснейше связаны» (Минувшее. Исторический альманах. 6. М., 1992. С. 262–263).