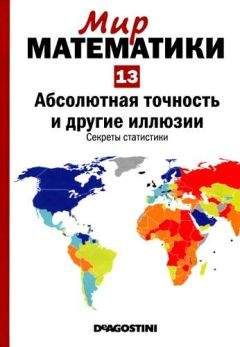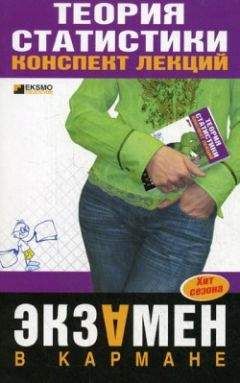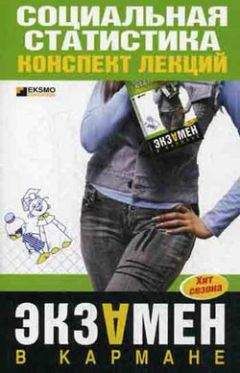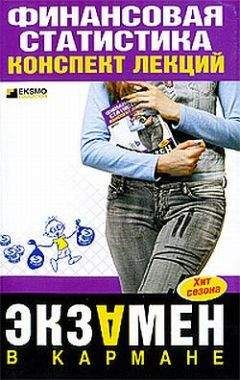Михаил Казиник - Тайны гениев
И бежали, да еще как.
Я нарочно Мусоргского не трогаю: ему, гению нашему сердешному, компании подходящей и на Руси нет.
Потому он, как и Бах, – не барокко, а Космос; как и Шостакович – не неоклассик, а всемирный Борец со Злом.
Вот и Мусоргский – не русский националист, не романтик, а – вне всяких стилей. Он вообще, горемыка наш гениальный, в спиртном-то и завяз, и умер с перепоев.
(Но это цена, которую сверхгении платят за право не вписываться ни в какие рамки.)
Он, Мусоргский, вообще, может, и понял, кто он.
Но вот вслух признаться бы не смог; потому даже друзья его по “кучке” хоть талант “Мусорянина” и признавали, но чаще идиотом звали.
И то: всю почти музыку будущего предвосхитил,
ни Шостакович без него,
ни Равель,
ни Прокофьев,
ни, опять же, Шниттке.
ни “пятерка” французская. У французов этих из XX века он, Мусорянин наш, главным образцом был.
А как не сказать о Равеле французском. Он так в Мусорянина влюбился, что музыкальный подвиг совершил –
для оркестра все “Картинки” его переложил.
А что он, Модест-горемыка, в своих письмах писал:
“Мели Емеля – твоя неделя”. Его дело. Он письма эти
не для печати иностранной писал, а для друга закадычного.
И давайте, господа, не будем вмешиваться в частную, можно сказать, переписку. Потому как грех это великий.
Глава 9. О драме моего детства
(нелюбовь и примирение)
Мне в детстве не повезло:
я очень рано познал нелюбовь.
Маму любил, папу любил, друзей любил.
А невзлюбил лишь советскую власть.
Уж как она навязывалась, как себя любить заставляла: и кнутом, и пряником.
И влюбила-таки в себя многих-многих (а, может, притворялись?). Но мне не повезло – не удалось этой власти обрести мою взаимность.
И виноват в этом Федор Михайлович Достоевский.
А, может, не он.
Может, сам я виноват: не по годам рано им увлекся. Читать его начал, когда мне было только 12 лет.
Рано, конечно, теперь понимаю, но ничего уж не поделаешь.
Прочитал я его, Достоевского, “Преступление и наказание” и... невзлюбил советскую власть. Все думали, что я перерасту эту нелюбовь свою (даже вкусы, а не только взгляды, меняются: в детстве в рот не могут взять маслины, а потом – не оторваться).
Но я своей нелюбви не перерос.
Слава Богу, дожил до того, что она, эта власть проклятая, сама себя изжила.
Но какое же отношение “Преступление и наказание” имело к моей нелюбви и к этой власти? А вот какое.
Прочитав роман два раза подряд, я пришел к убеждению, что вместе с еще 250 миллионами живу в одном из двух возможных государств Родиона Романовича Раскольникова.
Это он ведь обосновал ту двуединую идеологию, которую можно (нужно!) назвать фашистско-коммунистической.
Каким образом? А вот каким!
Раскольников планирует убийство старухи-процентщицы, чтобы после убийства забрать у нее деньги и разделить их между бедными.
Но поскольку Раскольников, как и Сальери, – не профессиональный убийца, а философ, то для совершения убийства ему нужно найти правовое или философское обоснование, которое позволит ему, во-первых, убить, а, во-вторых, оправдать убийство.
Вот его рассуждение и оправдание:
“...по моему разумению человечество делится на две категории – истинно люди и существа, необходимые лишь для размножения”.
Так вот, согласно Раскольнико|ву, “истинно люди” для достижения высших целей имеют право преступить через кровь. То есть законы пишутся для “размноженцев”, коих большинство; подлинно люди не признают этих законов, ибо им дано познание законов “высших”. Чья это идеология?
Конечно же, “сверхчеловеков” – на ней вся идеология фашизма держится, ибо эта идеология фашистских концлагерей, где “сверхчеловеки” распоряжаются судьбой “недочеловеков”.
Если бы я, читая роман, перестал размышлять дальше, все, быть может, так и закончилось бы – лишний раз подтвержденной нелюбовью к фашизму. Но я продолжил дальнейшие размышления.
Кто такая старуха-процентщица? Капиталист – владелец капитала. Что такое капитал, согласно Марксу? Стоимость, дающая прибавочную стоимость.
Что совершает Раскольников, убив старуху? Революцию! Ликвидирует владельца, экспроприирует капитал...
Знакомо? Конечно же, это путь ленинизма!
Итак, идеология фашизма (в его крайней форме – гитлеризме) и коммунизма (в его крайней форме – ленинизме) произрастает из единого идеологического зерна, оба пути ведут к убийству, в обоих принципах мышления
нарушена “только” одна-единственная
заповедь:
НЕУБИЙ!
Все остальное – софистика.
Когда я это понял, трудно мне стало жить, признаваясь в любви (или хотя бы не признаваясь в ненависти) к системе, базирующейся на убийстве).
Вспоминаю детство и краснею за некоторые эпизоды, когда вся моя нелюбовь к советской власти раскрывалась в общении с мамой и папой, ибо на кого еще можно было тогда обрушивать подобные идеологические выпады, не рискуя жизнью или хотя бы свободой.
Каждый день, когда все собирались дома, я начинал свои антикоммунистические высказывания, смело приглашая моих любимых родителей к дискуссии.
Моя бедная мама – убежденная коммунистка – сражалась со мной изо всех сил. Папа явно был на моей стороне, но он не хотел расстраивать маму, и цель у него была – успокоить обоих.
И вот однажды пришла к нам в гости Ася Семеновна, очень близкий друг семьи.
Настолько близкий, что мама не выдержала и пожаловалась ей на меня: “Не знаю, что с ним делать – несет сплошную антисоветчину – у меня уже сердце от этих разговоров болит”!
Ася Семеновна увела меня в другую комнату и спросила, чем я недоволен. А недоволен я, как вы понимаете, был советской властью.
Я обрадовался и, четко аргументируя, изложил по пунктам причины моей нелюбви.
Я был логичен, последователен, мудр и слегка язвителен. Никогда не забуду, что ответила на все мои доводы Ася Семеновна.
Она произнесла буквально следующее: “Ах, Мишенька, дорогой, советская власть-шмоветская власть – это все ерунда, мелочь, пустяк. Лишь бы мамочка была здорова”.
Это прозвучало так неожиданно, так естественно и так верно, что я опешил и впервые не нашелся, что ответить.
Права была Ася Семеновна!
Мамино здоровье важнее советской власти. Да и антисоветизм ее высказывания был куда сильнее моего: он был спонтанный и мудрый.
Советская власть-шмоветская власть, любая власть должна отступить перед здоровьем моей мамы. И это уже не абстрактный гуманизм, а конкретный.
Так вот и мучился я, болтаясь между двумя формами гуманизма.
Но было в моей жизни еще одно чувство, которое если и не примирило меня с советской властью, то отбросило мою ненависть к ней на задними план. (Хотя я никогда не прощу этой власти среди многого прочего тысячи и тысячи часов моей жизни, бездарно потраченных на конспектирование классиков марксизма, еще тысячи бесценных часов юности, отданных этим диким комсомольско-профсоюзным собраниям, нечеловечески глупым лекциям по истории КПСС, научному коммунизму, марксистско-ленинской философии, пожизненному для меня запрету выезжать в другие страны).
А примирило меня с жизнью в этой стране чувство гордости за ее уникальные традиции культуры прошлого, за удивительных людей-представителей старой русской интеллигенции (ничего подобного в мире больше нет), часть которых я еще, слава Богу, успел встретить; за величайшие в мире традиции гуманитарного образования, которые моя страна развивала вплоть до страшного большевистского переворота.
Примерно в то же время когда я читал Достоевского, мне попалась на глаза маленькая книжечка о традициях русской культуры.
(Сейчас уже не помню, сколько и какие там авторы, у меня ее давно кто-то зачитал).
Но ясно помню потрясшую меня до глубины души историю времен русской дореволюционной гимназии.
История следующая.
Это было в 1913 году.
Одиннадцатилетняя девочка, пансионерка Московской
Ржевской гимназии приставала к своему дядюшке с просьбой показать, что написано на медальоне, который тот всегда носил на груди.
Дядюшка снял медальон и протянул девочке. Девочка открыла крышку, а там ничего не написано. Кроме пяти нотных линеек и четырех нот: соль-диез – си – фа-диез – ми.
Девочка помедлила мгновенье, а затем весело закричала:
Дядюшка, я знаю, что здесь написано. Ноты на медальоне означают: “Я люблю Вас”.
И вот здесь возникает вопрос. Вы представляете себе, КАК УЧИЛИ ЭТУ ДЕВОЧКУ, если она, увидав четыре ноты, пропела их про себя, а пропев, узнала начало ариозо Ленского из оперы Чайковского “Евгений Онегин”.