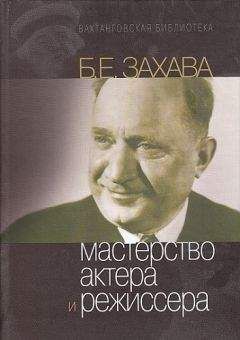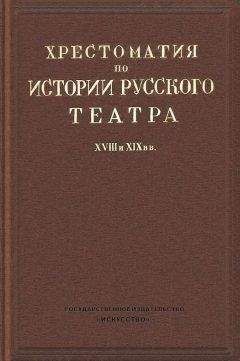Андрей Якубовский - Профессия: театральный критик
Вот берлинский "Фольксбюне" привез в Москву спектакль Франка Касторфа по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". И вновь московские театралы, пришедшие на встречу со своим любимым писателем и его героями, пали жертвой проблемы контекста. Режиссера не заинтересовали ни тематическая многозначность первоисточника, ни многомерность его образов, ни даже глобализация его проблематики в христианской мифологии. Касторф превратил свой спектакль в полигон по опробованию новейших театральных технологий. Сценический текст этого спектакля строился самым замысловатым образом — с щедрым привлечением кино, с разделением сценического пространства справа-налево и сверху-вниз, с исполнением одними и теми же актерами разных ролей, с "наездом" одних, библейских, эпизодов на другие, гротескно-бытовые, с нарушением всякой мыслимой связи между теми и другими. Касторф, по его признанию, предпочитает пьесам романы, простому сложное— прекрасно! Он рассматривает театральную постановку как "авантюру", "заставляющую нас задавать себе вопросы",— замечательно! Но разве не разумней было бы, прежде, чем затевать эту "авантюру" и создавать спектакль, рассчитанный на четыре часа сценического времени, задать вопрос самому себе: что же такое, этот роман Булгакова, что из себя представляют его герои? В хаотичной, темной по смыслу, постмодернистской в самом дурном смысле этого слова постановке Касторфа теряются следы произведения Булгакова. Лицом, утратившим ощущение контекста на этот раз—и самым парадоксальным образом, — оказался сам создатель спектакля, видный европейский режиссер.
Наконец, театр из Генуи показал в Москве поставленного немцем Маттиасом Лангхоффом гоголевского "Ревизора". Думается, режиссера, который уже в третий раз после Германии и Франции повторил свою работу с итальянскими актерами, в первую очередь интересовала не классическая пьеса, но возможность через ее посредство интерпретировать сценическую эстетику русского театрального конструктивизма. Именно поэтому Лангхофф выступил не только как постановщик, но и как сценограф спектакля, пронизанного прозрачными ассоциациями со знаменитой мейерхольдовской постановкой 1926 года. При этом он совершенно свободен от подражательности: здесь близость к великому "Мастеру" и далекость от него имеют одинаковое значение; здесь развертывается удивительная игра с целой театральной эпохой, в которой персонажи, ситуации, сюжет становятся всего лишь отправным пунктом. Описывать этот громоздкий и легкий, замедленный и стремительный, многофигурный и опирающийся на мастерство солистов, подчас переходящий на откровенную импровизацию и граничащий с озорством и даже хулиганством спектакль большого смысла не имеет. Скажем только, что, по всей вероятности, он представляет собой некий живой организм, включенный сразу в несколько контекстов, существующий одновременно в нескольких измерениях, главным из которых становится итальянская комедия дель арте (режиссер, видимо, корректирует свой замысел в зависимости от того, с каким национальным коллективом он работает). Именно от нее здесь игровая атмосфера, импровизация, образы-маски, густая буффонада актерских преувеличений, даже "выходные арии" (включая вышеупомянутое соло Городничего "Славное море священный Байкал"). При этом буффонада скорректирована здесь опытом агитпропа, а политические аллюзии подсказаны злобой дня, и так далее.
Можно сказать, что из этого спектакля зритель извлечет нечто интересное именно ему, а что именно — это зависит от его культурного кругозора и театрального опыта. Даже в том случае, если "театральная фантазия" Лангхоффа "не греет" в человеческом плане, она не может не вызвать живого интереса и заслуженного уважения. Спектакль напоминает, что, как известно, есть "постмодерн" и постмодерн, и между ними — колоссальная разница.
Пятый международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова, как уже отмечалось, оказался проблемным. Он поставил немало вопросов, на которые и нам, его зрителям, и тем более его устроителям еще предстоит найти ответы. Однако некоторые вопросы как бы уже предполагают и достаточно ясные ответы.
Организаторы фестиваля провели огромную работу, за которую — великая им благодарность; они нашли спонсоров, пригласили в Москву десятки театральных коллективов, решили нелегкие проблемы с их размещением, организацией спектаклей, конференций и встреч, они напечатали красочные программки и буклеты, реализовали несчетное множество пригласительных билетов, осчастливив большую часть "театральной братии", и так далее, и тому подобное. Одно им плохо удалось: они не выстроили контекст фестиваля, взятого в целом. За этим же в свою очередь угадывается целая система досадных просчетов.
Прежде всего недостаточная осмысленность выбора того или иного спектакля. Ориентация "на имена" не оправдывает себя в условиях, когда нет бесспорных лидеров театрального процесса, когда репутации созидаются крайне субъективными мнениями. Необходимо, как кажется, ориентироваться на спектакли. Появление в программе фестиваля "громкого имени" порождает любопытство, которому часто не суждено оправдаться, показ в рамках фестиваля спектакля-"события" мгновенно поднимает его общий уровень, надолго оставляет след в душах зрителей.
Думается, что прагматически-жесткий и в то же время реализующий высочайшие идейно-творческие критерии отбор влечет за собой и другую проблему: при громадных финансовых и энергетических затратах фестиваль оказывается не лучшим образом подготовлен в тематическом отношении, прокомментирован специалистами, изучающими театр различных стран (здесь с грустью вспомнишь буклеты "Госконцерта СССР", которые во времена, давно прошедшие, выпускались к гастролям любого мало-мальски заметного зарубежного театра в нашей стране и при этом давали исчерпывающие сведения как о коллективе, так и о спектакле, который нам предстояло посмотреть)... Такая работа не была проведена заранее, а критика текущая, в периодике, оказалась не на высоте (см. P.S. к данной статье).
Быть может, устроителям фестиваля следует задуматься о некоторых изменениях в его формуле, памятуя о высказывании одного из наших соотечественников — "лучше меньше, да лучше", — а также о том, что невозможно уйти от того обстоятельства, что фестиваль носит имя Чехова? Быть может, им следует проявить разумное самоограничение и впредь более жестко конкретизировать тематические и прочие рамки будущих фестивалей: в этом году показываем молодежные театры, а в этом — частные антрепризы, и так далее. Потому что культурные связи вряд ли могут осуществляться хаотически и без определенной четко выделенной художественно-творческой доминанты.
Вероятно, есть и другие варианты перемен, которые могут считаться назревшими и могли бы принести Чеховскому фестивалю большую и заметную пользу. Однако главной задачей на будущее, как представляется, остается выстраивание его контекста.
P.S.
Автор настоящей статьи все же испытал в ходе Чеховского фестиваля потрясение. Оно было связано с откликами периодической прессы на показанное с фестивальных подмостков. Естественно, критика зависима от театрального искусства, которое она освещает. Но чтобы эта зависимость осуществлялась в такой явной и почти скандальной форме, нам еще не приходилось видеть.
Один из авторов, ничтоже сумняшеся, заявил, что, де, критик "разбирает представление как спектакль", в то время как "обычный зритель получает удовольствие от на редкость красивого действа", и сам же в другой своей рецензии на фестивальный спектакль, пространно его описав, заметил как бы нехотя: "следовало бы рассказать о содержании и философии произведения"... Иначе говоря, критик превращается на наших глазах в "обыкновенного зрителя", который получает удовольствие от "красивого действа" и ограничивается фиксацией на страницах газеты отдельных "картинок", на которые, скажем справедливости ради, в самом деле распадаются многие спектакли, показанные на фестивале.
Критики описывают то, что видят, а видят они то, что им Бог на душу положит. Пример корявого пересказа спектаклей приводить не будем из жалости к читателю. Но вот отдельные "перлы": эпизоды, "мастерски склеенные в единую композицию", "поражает фантазия, с которой все это пущено в ход" или "даже то, что случается что-то неприятное на репетициях, но хорошо кончается, я рассматриваю как возможность почувствовать привилегию жизни" (из интервью Ф. Касторфа).
Такое ощущение, что мы присутствуем при самоубийстве профессии театрального критика или же при убийстве самой театральной критики.
Не умея понять происходящее на сцене, критики начинают хронометрировать спектакли: "Сирано де Бержерак" — 1 час 12 минут, "Сладкий Гамлет"— 1 час 10 минут, — создавая прецедент, в критике невиданный. Они же начинают сравнивать спектакли экзотических восточных театров с классическими достижениями национальной кухни, называя свои статьи так: "Пекинская опера лучше пекинской утки" или "Немного Кабуки для тех, кто любит суши и сашими". Гурманы и дегустаторы высокого полета — видимо, так ощущали себя писавшие о фестивале, — применив к непонятным им и ими неосвоенным интеллектуально спектаклям критерии, нам, к сожалению, неизвестные, сопровождали едва ли не всякую свою статью следующими эпитетами в адрес того или иного спектакля: "Грандиозно!", "Стопроцентный хит!", "Звенящее совершенство", "Лучший немецкий актер современности", и — через раз — "лучший спектакль Чеховского фестиваля!".