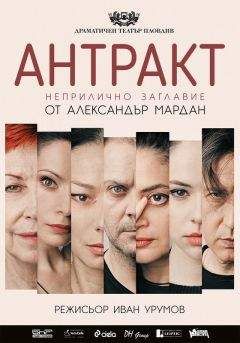Борис Голубовский - Путь к спектаклю
Роман “Я отвечаю за все” Юрия Германа привлек густотой жизни, многотемьем, неожиданными связями героев друг с другом. Нас интересуют переплетающиеся жизненные интересы, одна линия выходит на первый план, затем ее вытесняет другая. Как выбрать самую волнующую? Макет художника П.Белова строился на трех разномасштабных площадках, окруженных строительными лесами – город возрождается после военных разрушений. Каждая сюжетная группа держит свою площадку. Как-то получается слишком казенно, степенно. Это не темпераментный Юрий Герман... А что, если в начале вывести на все три площадки всех исполнителей и пусть они играют одновременно. Что, не будет понятно? А в жизни все бывает понятно? Представил себе, как на всех трех плоскостях действуют, разговаривают, ссорятся, а вот здесь – целуются. А потом пусть постепенно освобождают сцену одной группе, которая уже давно играет, сейчас зритель познакомится с ней вплотную. Потом сцены этой сюжетной линии зритель увидит не скоро, но уже запомнит ее. И в спектакле получился такой занавес жизни – из самых разных сцен. Для сюжета они ничего не дают, а для создания атмосферы людей, ответственно занятых своим делом, – определяют тон спектакля.
Самое драгоценное время для режиссера – одиночество, как говорил В.Г.Сахновский, перед встречами с коллективом и всей постановочной группой. Когда возникают картины жизни, их нужно сконцентрировать, собрать воедино, найти закономерность в их появлении, понять, как же они зримо, пластически воплощают ту идею, ради которой затеяна работа. Это, прежде всего – мизансцена.
Мизансценой мы привыкли называть любое передвижение и расположение актеров на сцене. Это неверно. Сергей Михайлович Эйнзенштейн говорил, что мизансцена – язык режиссера. Андрей Михайлович Лобанов определил мизансцену не менее точно: “Если интонация есть мысль, выраженная голосовыми средствами человека, мизансцена есть интонация, выраженная в движении”. Так же, как нельзя оглушать зрителя бесчисленными интонациями, становящимися надоедливыми и однообразными, так же нельзя утомлять зрителя бесчисленными мнимо-значительными передвижениями по сцене. Красота пластических вариаций тоже может надоесть! Детская болезнь мизансценирования, особенно часто настигающая молодых режиссеров, этакая мизансценная чесотка, желание утвердить себя каскадом движений, лишают спектакль точности, не дают возможности выявить главное. Даже у таких мастеров режиссуры, асов мизансценирования, как Вс.Мейерхольд, А.Таиров, А. Дикий, С.Ахметели были сценические люфты, паузы – подготовительные шаги, разгон к решающей образной мизансцене. На такую мизансцену работает развитие действия всей сцены, вся планировка. В ее рождении сочетаются неожиданность и безупречная логика. Она возникает не от желания “поразить” зрителя необычайным эффектом, а от глубокого понимания образа спектакля. Как бы смел, казалось не осуществим, ни был замысел, дело чести режиссера найти выразительные средства, которые помогут его воплотить.
Будет ли режиссер строить изощренные геометрические композиции...
Будет ли строить диагональные мизансцены, дуэльно сталкивающие героев...
Будет ли стремиться приблизить их к зрителю, показывая “крупный план” лиц...
Постарается ли за обыденностью быта показать наполненность большими страстями…
Но без своего решения мизансценного рисунка режиссер не имеет права выходить к актерам. Для этого он должен точно знать пространство будущего спектакля.
Автор подсказывает стилистику мизансцены. Удивительно пластически образно мыслит А.Сухово-Кобылин. Вот ремарка в “Деле”. “... показывается князь: Парамонов ему предшествует: по канцелярии пробегает дуновение бури: вся масса чиновников снимается со своих мест и, по мере движения князя через залу, волнообразно преклоняется. Максим Кузьмич мелкими шагами спешит сзади, несколько бочась так, что косиною своего хода изображает повиновение, а быстротою ног – преданность. У выхода он кланяется князю прямо в спину, затворяет за ним двери и снова принимает осанку и шаг начальника. Чиновники садятся”.
Или там же:
“Входит толпа чиновников с кипами бумаг, которые они от тесноты держат над головами, и таким образом обступают Варравина: “Каждый чиновник в очень быстром темпе, указанном автором, вкладывает бумаги начальнику. Количество бумаг все увеличивается. Варравин не успевает их пробежать, наконец, Шмерц сваливает на него целую кипу.
“Варравин: Ай!”
Исчезает под бумагами и кричит глухим голосом…”
Здесь есть все – психология индивидуальностей, взаимоотношения Варравина с князем и чиновниками, соблюдение социальной иерархии, сатирическое разоблачение бездушного отношения Варравина к делу и, наконец, символ бюрократии – чиновник, заваленный бумагами; гомерическая мизансцена!
Часто режиссеров, чувствующих пластическое соотношение людей в пространстве, обратное выражение мыслей в группах, тела актеров, обвиняют в том, что они превращают актеров в марионеток. Здесь вина и режиссеров, и актеров. Очевидно, в таких случаях режиссер не добился органичности в овладении рисунком, или актеры не сумели оправдать задание режиссера.
В футболе существует термин: “видение поля”, – футболист должен все время видеть все поле – где находится его противник или партнер, должен знать, когда можно прорваться, от какого противника нельзя отрываться – его нужно “опекать”. Такое же чувство поля (или видение) существует у режиссера, видящего всю композицию, и у актера, чувствующего общение с партнером.
Когда мы говорим об опорных точках, то отнюдь не подразумеваем забытовления, загромождения натуралистическими деталями. С.Юткевич называл такие пункты пространственным стержнем: “Таким опорным пунктом может быть лестница, стол, скамейка, забор или дерево... Я лично не могу снять ни одной сцены, если не решу для себя всю планировку, например, в “Отелло” очень трудный эпизод клятвы мавра о мести, вынесенный мною на натуру, я не мог выразительно распланировать, пока не придумал опорный пункт – огромный заржавленный якорь, выброшенный на морской берег, – вокруг него я и размизансценировал весь напряженный диалог Отелло и Яго.”
Великим умельцем создавать “притыки” или пространственные стержни, вокруг которых строилось действие, был, конечно, Мейерхольд. Его пластические сочинения так прочно вошли в историю русского театра, что даже как-то неловко их пересказывать, так же, как неловко пересказывать сюжет и образы “Тайной вечери” или Нику Самофракийскую.
Непревзойденная по пластическому выражению любовной романтики представляется сцена на гигантских шагах, на которых проходит объяснение Аксюши и Петра в “Лесе” А.Островского.
Трагический танец пьяного безработного инженера Нунбаха и его диалог – на равных! – с бюстом Гете во “Вступлении” Ю.Германа...
Падающая на игорный стол, как проигранная ставка, Маргерит Готье в “Даме с камелиями” А.Дюма...
Змея чиновников, следующая за Хлестаковым в “Ревизоре”...
Танец Юсова с горящими газетами в трактире в “Доходном месте” А.Островского...
Полина – М.Бабанова, спускающаяся из мансарды по узенькой лестнице, не решающаяся принять какое-либо решение...
Перечень гениальных находок невозможно продолжить.
Хочу добавить лишь рассказ о некоторых сценах в спектакле, оставшемся неизвестным для зрителей в последней работе Мастера “Одна жизнь” – инсценировке романа Н.Островского “Как закалялась сталь”, запрещенного перед ликвидацией театра, но репетиции которого мне посчастливилось увидеть.
Автор инсценировки, киносценарист-классик Евгений Габрилович рассказывает, как Павка Корчагин поднимает товарищей на работу. Все смертельно устали, голодны, изверились, злы, никто не хочет идти в дождь и холод на участок. И вот, использовав весь запас слов, ссылок на международное положение, шуток и призывов, Павка вдруг медленно и неуверенно начинает плясать. Он плясал совершенно один в тусклой мгле сырого барака, и его товарищи сперва с насмешкой, а потом с удивлением глядели на него с нар. А он плясал и плясал, все быстрее, веселясь, кружась, приседая, без всякой музыки, даже не подпевая себе. И вот уже кто-то стукнул ладонью по нарам его пляске, застучал другой, третий, пошел легкий аккомпанирующий стук. Выскочил на середину барака еще один паренек и пошел в пляс рядом с Павкой. Повыскакивали другие. А треск аккомпанемента все усиливался – ребята гремели теперь кулаками. И уже не один Павка, а десять, пятнадцать, двадцать ребят плясали под этот грохот. Грохот перерастал в гром, вступали барабаны оркестра, начинали медленно, а потом быстрей и резче перебегать по сцене, как бы тоже в пляске, лучи прожекторов. И вот уже плясало все – ребята, лучи, барабаны, самые стены барака. По-прежнему никакой музыки, один лишь ритмический гром ладоней, кулаков, барабанов. Внезапно в этом вихре и громе начинала тихо-тихо звучать где-то, будто в недрах, в сердце барака старая революционная песня. Росла, крепла, ширилась, и вот уже стихал танец, стук, ребята, потные от пляски, в рваных одеждах, в опорках, пели эту чудесную песню, сложенную их братьями и отцами в централах и ссылках. И под эту песню, в сиянии успокоившихся прожекторов шли в дождь и холод на труд.