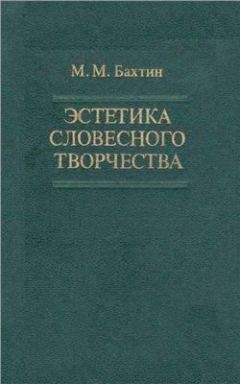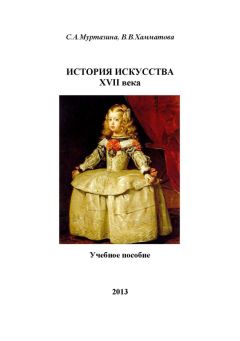Коллектив авторов - Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия
Повсюду имеется реакция на этот плоский и удобный материализм в искусстве. Пожалуй, сильнейшую брешь в этой системе пробил рано умерший венский ученый Алоиз Ригль, глубокая и мастерски написанная работа которого о позднеримской художественной промышленности, имеющая эпохальное значение, не привлекла, к сожалению, частично из-за трудностей доступа к публикации, того внимания, которого она заслуживает4.
Прежде всего, Ригль ввел в свой метод исследования истории искусства понятие «художественной воли». Под «абсолютной художественной волей» следует понимать то скрытое внутреннее требование, которое совершенно не зависит от объекта и способа творчества, существует само по себе и обнаруживает себя как желание формы. Оно является первичным элементом всякого художественного творения, и любое произведение искусства по своей внутренней сущности есть лишь объективация этой, данной априорно, абсолютной художественной воли. Материалистический метод в искусстве, который – и это необходимо подчеркнуть – не просто тождественен с методом Готфрида Земпера, а базируется отчасти на педантичном и ложном толковании его работы, рассматривает примитивное произведение искусства как продукт трех факторов: утилитарной цели, исходного материала и техники. Для него история искусства была в конечном счете историей мастерства. Напротив, новое воззрение рассматривает историю развития искусства как историю художественной воли, исходя из психологической предпосылки, что мастерство есть только вторичное явление по отношению к воле. Особенности стиля прошедших эпох вытекают не из недостатка мастерства, а из иначе направленной воли. Таким образом, решающим является то, что Ригль назвал «абсолютной художественной волей» и что только видоизменено через эти три фактора: утилитарную цель, материал и технику. «Эти три фактора не годятся больше для той позитивной творческой роли, которую приписывает им материалистическая теория, а играют тормозящую, негативную роль: они, так сказать, образуют коэффициент трения внутри общего продукта»5.
Вообще, мы не поймем, почему понятию художественной воли придается такое исключительное значение, если только мы исходим из наивной, прочно укоренившейся предпосылки, что художественная воля, то есть побуждение, которое предшествует возникновению произведения искусства, во все времена была одной и той же, с оговоркой относительно известных вариаций, называемых стилистическими особенностями, и что, поскольку мы рассматриваем изобразительное искусство, его стремлением было всегда приближение к природному прототипу…
Всякий способ рассмотрения истории искусства, который последовательно порывает с этой односторонностью, порицается как искусственный, как оскорбление «здравого человеческого смысла». Но что другое представляет собой этот здравый человеческий смысл как не косность нашего ума, которая не позволяет выйти за пределы очень незначительного и ограниченного круга наших представлений и признать возможность других предпосылок…
Прежде чем продолжить дальше, выясним отношение подражания природе к эстетике. Здесь необходимо договориться о том, что инстинкт подражания, эта элементарная потребность человека, стоит, собственно, вне эстетики и что ее удовлетворение принципиально не должно иметь ничего общего с искусством.
Но здесь все же нужно делать различие между инстинктом подражания и натурализмом как видом искусства… Они совсем не идентичны и должны строго различаться, каким бы трудным делом это ни казалось. Любая путаница понятий в этом отношении имеет тягчайшие последствия…
Примитивная склонность подражать господствовала во все времена, и ее история есть история развития технического мастерства, не имеющего эстетического значения. В древнейшие времена этот инстинкт был совершенно оторван от собственно художественной склонности, он удовлетворялся главным образом в прикладном искусстве миниатюры, а также в тех маленьких идолах и символических играх, которые мы находим во все ранние эпохи искусства и которые довольно часто прямо противоречат творениям, обнаруживающим чисто художественную склонность народов. Здесь вспоминается, как, например, в Египте склонность к подражанию и художественное стремление развивались бок о бок и одновременно, но отдельно друг от друга. В то время как так называемое «народное искусство» с его пугающим реализмом создавало такие известные статуи, как «Писец» или «Деревенский староста», настоящее искусство, ложно названное «придворным», обнаруживало строгий стиль, который избегал всякого реализма. В дальнейшем изложении мы еще оговорим, что здесь не может быть речи ни о неумении, ни о натянутости, но что здесь требует своего удовлетворения определенное психическое влечение. Настоящее искусство во все времена удовлетворяло глубокую психическую потребность, а не чистое влечение к подражанию, незначительное удовольствие, получаемое от подражания природному образцу. Слава, которая окружает понятие искусства, всеобщая благоговейная преданность, которой оно пользуется во все времена, может быть, однако, мотивирована психологически только тем, что имеется в виду такое искусство, которое, возникая из психических потребностей, удовлетворяет их…
Ценность произведения искусства – то, что мы называем его красотой, – заключается, вообще говоря, в его способности делать человека счастливым. Конечно, его достоинства находятся в причинном отношении к тем психическим потребностям, которые они удовлетворяют. Эта «абсолютная художественная воля» является, таким образом, показателем качества этих психических потребностей.
Психология потребности в искусстве, с нашей современной точки зрения, потребность стиля, еще не описана. Она должна бы быть историей чувства мира (Weltgefuhl) и как таковая стоять наравне с историей религии. Под чувством мира я понимаю психическое состояние, в котором человечество всегда противополагает себя космосу, явлениям внешнего мира. Это состояние выражается в качестве психических потребностей, то есть в характере абсолютной художественной воли, и находит свой конечный результат вовне, в художественном произведении, а именно – в стиле последнего, своеобразие которого как раз и есть своеобразие психических потребностей. Таким образом, в развитии художественного стиля различные оттенки так называемого чувства мира могут быть прослежены также и в теогонии народов.
Любой стиль приносит человечеству, которое вырабатывает его, исходя из своих психических потребностей, состояние высшего счастья. Это должно стать главным догматом всякого объективного рассмотрения истории искусства. То, что с нашей точки зрения представляется как величайшее искажение, для его создателя должно было быть высшей красотой и осуществлением его художественной воли. Таким образом, с нашей точки зрения, с позиций нашей современной эстетики, которая свои суждения заимствует у греко-римской античности и Ренессанса, все ценности, связанные с более высокой точкой зрения, представляют бессмыслицу и пошлость.
После этого вынужденного отступления вернемся к исходному пункту, а именно – к тезису об ограниченном применении теории одухотворения.
Потребность в одухотворении может быть рассмотрена как предпосылка художественной воли только там, где это желание склоняется к истине органической жизни, то есть к натурализму в высшем смысле этого слова. Чувство счастья, которое освобождается в нас благодаря передаче органической жизненности, – то, что современный человек называет прекрасным, – есть удовлетворение той внутренней потребности в самодеятельности, в которой Липпс видит предпосылку процесса одухотворения. В формах художественного произведения мы наслаждаемся нами самими. Эстетическое наслаждение есть объективированное самонаслаждение. Ценность линии, формы заключается для нас в ценности жизни, которую они передают. Они содержат свою красоту только благодаря нашему жизненному чувству, которое мы незаметно проецируем на них.
Воспоминание о мертвой форме пирамиды или о жизненной подавленности, как она обнаруживается, например, в византийской мозаике, ясно говорит о том, что потребность в одухотворении, которая по названным причинам всегда склонна к органическому, не может определять здесь художественную волю. Напрашивается мысль, что перед нами импульс, который прямо противоположен стремлению к одухотворению и который как раз пытается подавить то, в чем находит свое удовлетворение потребность в одухотворении6.
Тенденция к абстрагированию представляется нам противоположностью потребности одухотворения. Первейшей задачей данной работы является анализ этой тенденции и установление значения, которое она приобретает в ходе развития искусства…
Мы находим, что художественная воля первобытных народов, поскольку таковая вообще имеет у них место, затем художественная воля всех примитивных эпох искусства и, наконец, художественная воля известных развитых восточных народов обнаруживает эту абстрактную тенденцию. Таким образом, стремление к абстракции стоит у истоков всякого искусства и остается господствующим у известных стоящих на высшей ступени культуры народов, в то время как, например, у греков и других западных народов оно постепенно исчезает, чтобы уступить место тенденции одухотворения.
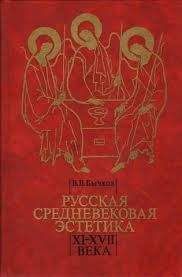
![Пётр Киле - Эстетика Ренессанса [Статьи и эссе]](/uploads/posts/books/199113/199113.jpg)