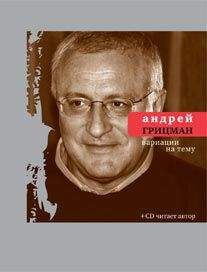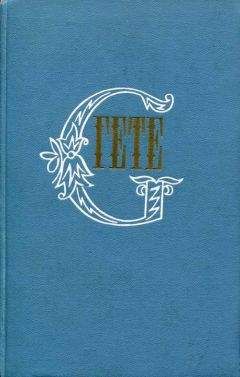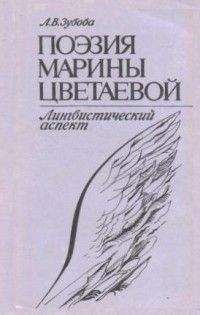Октавио Пас - Избранные эссе
Готика создана не папами и не императорами, а городскими общинами и монашескими орденами. То же самое могу сказать о таком интеллектуальном установлении средних веков, как университет. Он и собор — порождения городского сообщества. Не раз говорилось, что вертикаль храмов выражает устремленность христианской души за пределы этого мира. Добавлю: если направленность собранного и как бы нацеленного в небо храма воплощает дух средневекового общества, то устройство его передает состав этого общества. Все в здании и впрямь устремлено вверх, к небу, но в то же время живет собственной, отдельной и своеобычной жизнью, а многообразие не подрывает единства целого. Строение собора — живая материализация общества, где наряду с властью монарха и феодала в сложнейшую солнечную систему объединений, союзов, пактов и договоров складываются общины и корпорации. Именно свободное волеизъявление городских коммун, а не авторитет пап или императоров придает готике ее двойную устремленность: с одной стороны, нацеленность стрелы вверх, с другой — протяженность по горизонтали, хранящая и осеняющая, не упраздняя, все многообразие сотворенных Всевышним родов, семейств и индивидов. Расцвет же папского искусства приходится на эпоху барокко, его типичный представитель — Бернини{81}.
Итак, отношения между государством и художественным творчеством в каждом конкретном случае зависят от природы общества, в лоне которого сосуществуют эти силы. Но если говорить в целом — насколько вообще можно формулировать какие-то итоги в столь обширной и противоречивой сфере, — наш исторический экскурс подтверждает одну мысль: государство не только никогда не было создателем ничего сколько-нибудь ценного в искусстве, но, пытаясь использовать его в своих целях, в конце концов доводило до обессмысливания и вырождения. Ответом на эти условия со стороны группы художников, явно или скрыто противостоящих искусству официоза и распаду общего языка, становилось «искусство для немногих». Гонгора в Испании, Сенека и Лукан в Риме, Малларме среди филистеров Второй империи{82} и Третьей республики — примеры такого поведения художников, когда через одиночество и разрыв с аудиторией современников они добиваются высшего понимания, о котором может мечтать автор, — понимания потомками. Лишь благодаря их усилиям язык, не распыляясь в жаргоне и не окаменев в формуле, хранит собранность и достигает самосознания и свободы.
Их герметичность — вовсе не закрытую напрочь, но охотно распахнутую каждому, кто рискнет одолеть зыбкий и ощетинившийся крепостной вал слова — я бы уподобил зерну. В нем дремлет будущее. Спустя столетия после смерти поэтов их темнота обращается светоносностью. Воздействие их подспудно, но глубоко: они, на мой взгляд, не столько авторы стихов, сколько авторы и творцы будущих авторов. Не зря в их гербе — феникс, гранат{83} и элевсинский колос.
Освящение мига[18]
Слова поэта — поскольку они слова — всегда и его, и чужие. С одной стороны, они принадлежат истории — данному народу, данному состоянию его языка, а потому датируемы. С другой, они — до всякой даты: само начало начал. Не совпади бесчисленные обстоятельства, называемые Грецией, ни «Илиады», ни «Одиссеи» не возникло бы; но сколько исторической реальности осталось бы от Греции без них? Каждое стихотворение соткано из совершенства точно датируемых слов и вместе с тем предшествует любой дате: это первородное деяние, которое дает начало самой истории социума и индивида, выражение данного общества и одновременно его основа, условие существования. Без общепринятых речений стихов не бывает; без слова поэтического нет самого общества, государства, Церкви и любого другого человеческого союза. Слово поэта исторично в двух взаимодополнительных, неразрывных и непримиримых смыслах: оно порождено обществом и вместе с тем — исходное условие самого общества.
Питающий стихи язык, в конце концов, и есть история, совокупность имен, отсылок и сносок, каждая из которых привязана к узкому историческому пространству и по смыслу исчерпывается центральным действующим лицом истории — человеком или группой людей. Вместе с тем все это переплетение слов, вещей, обстоятельств и действующих лиц, образующих ткань истории, имеет свой исток — слово, рождающее его в мир и дарящее смыслом. Исток этот — не в истории, не в минувшем: он всегда в настоящем и неотступно требует воплощения. То, о чем рассказывает Гомер, не принадлежит датируемому прошлому, да и прошлому вообще. Это нечто временное и, однако же, текущее, скажем так, поверх времени в неизбывчивой жажде настоящего. Вечно в начале и всегда в бесконечном становлении, оно вновь свершается всякий раз, как только мы произносим древние гекзаметры. История есть место воплощения поэтического слова.
Стихи связывают первотворный опыт со всеми последующими поступками и навыками, которые и обретают связность и смысл только лишь в соотнесении с этим освященным поэзией первоопытом. И не важно, идет ли речь об эпосе, лирике или драме. В любом случае хронологическое время — общепринятое слово, социальные или личные обстоятельства — в корне преображается. Выхваченные из сплошного потока, эти детали уже не просто звено в цепи, один из многих одинаковых мигов, минувших прежде и ожидающих впереди, они начало иного. Стихотворение заговоренной чертой отделяет избранный миг от потока времени. «Здесь и сейчас» становятся точкой начала — страсти, геройства, богоявления, мгновенного удара при виде одного-единственного дерева или гладкого, как точеный мрамор, чела Дианы. Этот миг отмечен особым светом. Он освящен поэзией в лучшем смысле слова «освящение». В отличие от аксиом математики, законов физики либо понятий философии, стихотворение не уходит от опыта: время в нем остается живым, во всей неистребимой полноте и вместе с тем способности вновь и вновь воскресать в другом обличье, возрождаться, озаряя новым светом новые мгновения, новый опыт. Возлюбленные Сафо и сама она неповторимы и принадлежат истории, но стихи ее живы и сейчас; они отрезок времени, который властью ритма может перевоплощаться до бесконечности. Отрезок — неудачное слово: это завершенный и самодостаточный, неподражаемый и архетипический мир, существующий не в прошлом или будущем, но в вечно настоящем. Именно эта способность жить настоящим выхватывает поэзию из потока времени, но и накрепко привязывает ее к истории.
Поскольку стихотворение всегда в настоящем, оно существует лишь «здесь и сейчас», силой своего бытия среди людей. Чтобы остаться в настоящем, стихотворение должно сбыться среди нас, воплотясь в истории. Как любое творение человека, поэзия — детище истории, плод времени и места. Но вместе с тем она преодолевает границы истории, укореняясь во времени, предшествующем историческому, — в начале начал. До истории, но не вне ее. Именно до — как архетипическая, недатируемая реальность, абсолютное начало, целокупное и самодовлеющее время. И именно внутри данной истории, больше того — истории как таковой, поскольку она жива, лишь вновь и вновь воплощая, возрождая, воспроизводя этот миг поэтического причастия. В отрыве от истории — от людей как ее истока, сути и цели — стихотворение не в силах ни зачаться, ни воплотиться. Но и без поэзии нет истории — ни истока ее, ни начала.
Поэтому стихи историчны в двух смыслах: как плод социальных обстоятельств и как творческое начало, которое преодолевает границы истории, но ради осуществления должно вновь воплотиться в историческом, воссоздавшись в конкретных обстоятельствах человека. Отсюда особое отношение стихов ко времени. Стихотворение — это вечно настоящее, так сказать, непроявленное настоящее время, неспособное сбыться иначе, как становясь данным настоящим в определенном «здесь и сейчас». Оно — образчик архетипического времени, а стало быть, времени, воплощенного в неповторимом опыте народа, группы, кружка. Эта способность воплощаться в человеческих обстоятельствах и делает его истоком, источником: стихотворение поит молодильной водой бесконечного мига, который есть и самое отдаленное прошлое, и самое непосредственное будущее. Но отсюда и внутренний конфликт, драма историчности стиха как творческого начала. Особыми, не похожими на другие труды человеческих рук стихи делает способность преображать время, не сводя его к абстракции. Но это же самое заставляет их ради полноты осуществления вновь и вновь возвращаться в поток времени.
Для внешнего взгляда никакой трещины в отношениях поэзии с историей нет: стихи — детище социума. Даже если поэзия, как сейчас, в раздоре с обществом и выдворена за его пределы, стихи не порывают с историей. Историческим свидетельством остается их неприкаянность. В расколотом обществе и не может быть иной поэзии, чем наша. С другой стороны, государства и Церкви веками вербовали себе на службу голос поэта. Чаще всего даже не прибегая к насилию. Поэты отождествляли себя с данным обществом, без колебаний освящая словом действия, навыки и учреждения эпохи. Сан-Хуан де ла Крус, несомненно, полагал, что служит — и взаправду служил — вере своими стихами, но разве можно свести неисчерпаемое чудо его лирики к тем вероучительным объяснениям, которые он дает в комментариях? Басе{84} не написал бы ни строчки, не живи он в Японии XVII века, но обязательно ли верить в рецепты дзэн-буддистского озарения, чтобы потеряться в замершем на века бутоне трех строк его хайку? Двузначность стихов связана не с историей, если понимать ее как единую и целостную реальность, охватывающую все сотворенное, она — в двойственной природе поэзии. Конфликт здесь не в истории, а внутри самого стихотворения: за ним — двуплановость творческого начала, стремящегося и преобразить историческое время в архетипическое, и воплотить этот архетип в заданных исторических обстоятельствах.