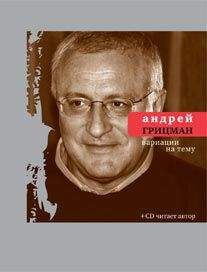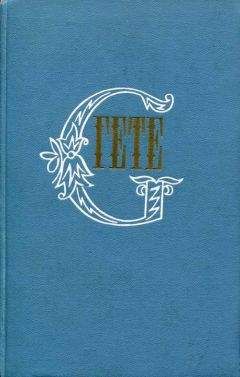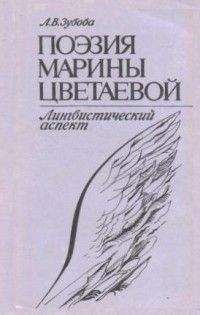Октавио Пас - Избранные эссе
Между рождением и смертью — утверждает поэзия — лежит возможность, возможность не вечной жизни, которой учит любая религия, и не вечной смерти, о которой говорит любая философия, но такое «жить», которое предполагает и содержит в себе «умирать». Возможность бытия дается всем. Поэтическое творчество — одна из форм такой возможности. Поэзия утверждает, что человеческая жизнь — это не «приготовление к смерти», по Монтеню{52}, и не «бытие к смерти» из экзистенциального анализа. Человеческое существование таит в себе возможность возвышения над собственным уделом, примирения противоположности жизни и смерти. Ницше говорил о том, что греки придумали трагедию, потому что были слишком здоровы. Так оно и есть. Только народ, живущий полной и напряженной жизнью, может быть трагическим народом, потому что жить со всей полнотой и значит жить смертью. Именно это состояние описывает Бретон{53}, говоря что «жизнь и смерть, реальное и воображаемое, прошлое и будущее, доступное и непередаваемое, высокое и низкое перестают восприниматься как разные вещи, это состояние не имеет отношения к вечной жизни, к какому-то потустороннему и вневременному там». Оно во времени. Человек призван быть всеми теми разными вещами, которые его составляют. Он может быть ими всеми, потому что они от рождения в нем, он есть они. Сбываясь, он сам становится другим. Другими. Выявить, воплотить этих других — задача человека и поэта. Поэзия не дает вечной жизни, но через нее нам просвечивает то, что Ницше называл «несравненной жизненностью жизни». Поэтическое переживание открывает источники бытия. Всего только миг — и навсегда. Всего только миг — и никогда. Миг, в котором мы — то, чем были и чем будем. И рождение и смерть — всего лишь миг. И в этот миг мы сами — и жизнь и смерть, и то и это.
Поэтическое слово и слово религиозное на протяжении истории не раз пересекались и совпадали. И однако, религиозное откровение — во всяком случае, в той мере, в какой оно слово — это интерпретация изначального события, а не само событие. Что же касается поэзии, она, напротив, выявляет человеческий удел и творит человека образом. Поэтический язык выявляет парадоксальную человеческую природу, его «инакость», побуждая человека стать тем, что он есть. Не священные писания основывают человека, ведь они сами держатся на поэтическом слове. Деяние, посредством которого человек обосновывается и выявляется, — поэзия. У религиозного и поэтического опыта общие корни, их исторические выражения — поэмы, мифы, молитвы, гимны, заклинания, театральные представления, ритуалы и т. д. — часто трудно различить. Ведь и то и другое — все это в конечном счете опыт нашей сущностной «инакости». Но религия истолковывает, классифицирует и систематизирует вдохновение внутри теологической доктрины, а Церковь конфискует плоды этого вдохновения. Меж тем поэзия открывает кроющуюся во всяком рождении возможность быть, пересотворяя человека, понуждая его избрать свой истинный удел. И он выбирает не «или — или», или жизнь, или смерть, но целостность жизни и смерти в едином раскаленном миге бытия.
Поэзия между обществом и государством[15]
Приписывать государству власть над художественным творчеством — пагубный предрассудок варваров. Политическое господство стерильно, ведь его суть, какой бы идеологией она ни прикрывалась, — подчинение других. Конечно, свобода самовыражения всегда относительна, она подразумевает препоны и границы, мы свободны лишь в той или иной мере, и все-таки легко заметить: всюду, где власть может вторгнуться в занятия человека, искусство либо хиреет, либо становится ручным и чисто механическим. Стиль — явление живое, это беспрерывный рост на избранном пути. Огражденный от внешних воздействий, связанный с подспудными процессами в обществе, путь этот до известной точки непредсказуем, как древесная паветвь. Напротив, заказной стиль убивает творческую непосредственность; все великие империи рано или поздно усредняют изменчивый образ человека, превращая его в бесконечно повторяющуюся маску. Власть замораживает, цепенит многообразие жизни в единственном жесте — величественном, ужасающем или театральном, но в конечном счете всегда одном и том же. Формула «государство — это я»{54} отнимает у человека лицо, подменяя его каменными чертами абстрактной личности, предназначенной до скончания веков служить образцом всему обществу. Стиль, этот мотив, бесконечно сплетающий прежние элементы в новых сочетаниях, вырождается в убогий перепев.
Пора наконец перестать смешивать «артельное», «общинное» творчество с официальным искусством. Первое живет верованиями и идеалами общества, второе — подчиняется приказам деспотической власти. Могущественные государства и империи давали приют разным идеям и устремлениям — культу полиса, христианству, буддизму, исламу. Но нелепо видеть в готическом или романском искусстве плод папской власти, а в скульптурах Матры{55} — отражение империи, основанной Канишкой{56}. Политическая власть может дать художественному течению выход, применение, в каких-то случаях — толчок. Чего она не в силах, так это дать ему жизнь. Больше того, рано или поздно она стерилизует художника. Искусство всегда уходит корнями в язык того или иного общества, а он есть прежде всего и по преимуществу определенный образ мира. Государство — как и искусство — само вскормлено этим языком и живет этим образом мира. Не папская власть породила христианство — совсем напротив; либеральное государство создано буржуазией, а не наоборот.
Примеры можно умножить. И если захватчики — скажем, мусульмане в Испании — навязывают народу свою картину мира, то чужое государство и его культура так и остаются чужеродным налетом, пока народ по-настоящему не усвоит эту религиозную или политическую идею. Новые представления о мире должны врасти в почву выношенных верований и природного языка — только тогда появятся искусство и литература, в которых общество узнает себя. Стало быть, государство может насаждать ту или иную картину мира, затаптывать другие и выкорчевывать ростки третьих, но не в силах дать плода — породить свой собственный образ. То же самое с искусством: государство его не создает, а, пытаясь вызвать, вытаптывает, но чаще всего, думая использовать, уродует, душит или превращает в маску.
А как же искусство Египта, ацтеков, испанское барокко, «великий век»{57} Франции (ограничимся лишь этими общеизвестными примерами) — разве они не опровергают сказанного? Подъем их приходится как раз на расцвет абсолютной власти. Не случайно в их блеске видят отраженное великолепие государства. Однако достаточно даже беглого взгляда — и заблуждения рассеиваются.
Как в любой обрядоверческой цивилизации, искусство ацтеков — культовое. Ацтекское общество существовало в сумрачной и вместе с тем ослепительной атмосфере священного. Любое действие имело религиозный смысл. Само государство было воплощением религии. Моктесума не просто вождь, он верховный жрец. Война — один из обрядов: разыгрывание солярного мифа, в котором вооруженный шиукотлем Уицилопочтли, непобедимое солнце, обезглавливал Койольшауки и ее четыреста звезд — сенсонуицнауа. Равно так же любая другая человеческая деятельность. Политика и искусство, торговля и ремесло, внешние сношения и внутрисемейные связи — все они уходили корнями в почву священного. Общественная и частная жизнь здесь — два берега одного жизненного потока, а не особые миры. Смерть и рождение, поход на войну или на праздник — события религиозные. Как же можно называть искусство ацтеков огосударствленным или политизированным? Ни государство, ни политика не стали еще независимой силой, власть не оторвалась от религии и магии. И уж если быть точным, искусство ацтеков выражало устремления не государственные, а религиозные. Кто-то сочтет это простой игрой слов, ведь религиозная основа не ограничивала государства, а, напротив, укрепляла его мощь. Не совсем так: одно дело — религия, воплощенная в государстве, как у ацтеков, и совсем другое — религия, используемая государством, как в Риме. Разница кардинальная, без нее не понять отношение ацтеков к Кортесу. Больше того, само искусство ацтеков было, строго говоря, религией. Изваяния, стихи или стенопись не относились к «произведениям искусства» и ничего не «выражали», это были воплощения, живые лики священного. Иными словами, абсолютный, всеобщий и единовластный характер мексиканского государства определялся не политикой, а религией. Государство было культовым: вождь, воин или простолюдин оставались понятиями религиозными. Формы, которые принимало и ацтекское «искусство», и «политическая жизнь», входили в священный язык, понятный всем.[16]