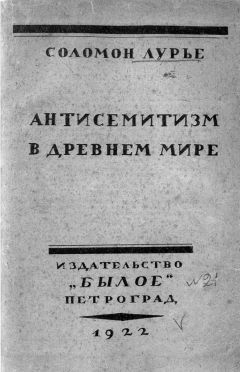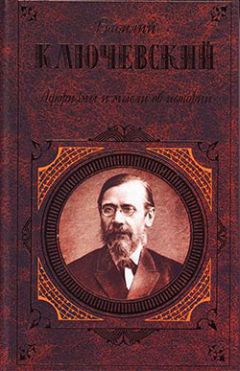Евгений Добренко - Политэкономия соцреализма
Именно этот – репрезентативный – аспект интересует нас здесь. Дело не в том, как определять советский исторический опыт (это является в немалой степени результатом идеологических и политических преференций), но в самом акте этого «определения», поскольку сам этот акт означает вступление в зону бесконечного расподобления. Нам придется расподобить марксизм и социализм. В последнем диапазон также огромен – от крестьянских социалистических утопий (тоже, кстати, различных в Китае и в России, например) до «прусского социализма», оказавшего огромное влияние на идеологию «национал–социализма», от «утопического» социализма Фурье или Дюринга до «научного» социализма. В самом же марксизме (даже в русском его изводе) нам придется различать большевизм и меньшевизм, Ленина времен «Государства и революции» и Ленина времен обоснования НЭПа, нам придется отличать «казарменный социализм» от «социализма с человеческим лицом», «раннего» Маркса от «позднего», еврокоммунизм, либеральный социализм, восточноевропейский социализм от социализма образца Мао, социализм в Анголе от неомарксизма, а последний от постмарксизма…
Будем также помнить, что в советских условиях марксистский проект изменялся столько раз, что в конце концов от него мало что осталось. Очень часто в него вносились столь радикальные изменения, что требовался немалый запас «революционного романтизма», чтобы интерпретировать диаметрально противоположные исходному проекту положения в категориях «творческого марксизма». То было объявлено, что социализм победит не в наиболее развитых странах, а почему‑то в «самом слабом звене империализма»; затем оказалось, что социализм возможен в «одной отдельно взятой стране»; после войны, когда «советское общество вступило в эпоху развернутого строительства коммунизма», оказалось, что теперь уже и коммунизм возможен в одной стране, более того, что коммунизму свойственно… укрепление государства[98].
Все эти очевидные несообразности, диалектически преобразовывавшие проект не просто до неузнаваемости, но до противоположности, также, конечно, должны быть взяты в расчет при определении линяющего «социализма» в СССР. Бесконечная эта цепь расподоблений и необходимый учет множества параметров приводят к тому, что в конце концов нам придется сказать, что мы имеем дело с… «советским социализмом». Иначе говоря, сама атрибуция советской системы и советского опыта как «социализма» оказывается нерелевантной: все дело сводится к определению этого очередного «социализма» (или «марксизма»). Мы оказываемся перед необходимостью как‑то позиционировать советский опыт по отношению ко всем этим (и многим еще другим!) «социализмам» и «марксизмам», тогда как сама суть советского проекта сводилась к позиционированию себя в качестве «реального социализма» или социализма как такового (а не как «одного из»). Бесспорно лишь то, что перед нами находится советский исторический опыт, репрезентативный потенциал которого почти полностью исчерпывался позиционированием себя в качестве «социализма». Основное событие, интересующее нас здесь, разворачивается в пространстве между этим опытом и социалистическим (марксистским) дискурсом, который его оформлял.
Эстетическое, слишком эстетическое
Социализм есть зрелище социализма. Это «новая реальность», которая сама свидетельствует о себе, не нуждаясь в референте. Когда‑то Ги Дебор точно описал природу этой реальности в «Обществе зрелища». Он утверждал, что «зрелище – это не коллекция образов, но социальные отношения между людьми, опосредованные образами», что в своей тотальности зрелище является «одновременно результатом и проекцией господствующего способа производства. Это не добавка к реальному миру, не дополнительная декорация, но самая суть нереальности реального общества»[99]. Язык зрелища состоит, по Дебору, из «знаков господствующего производства, которые одновременно являются единственной настоящей целью этого производства»[100]. Более того, «самая реальность вызревает внутри зрелища, что делает зрелище реальностью»[101]. Важные импликации подобного взгляда на социальную реальность раскрываются в подходе к идеологии, которая, как утверждал Дебор, «материализует себя в форме зрелища».
Подход к тоталитаризму как к зрелищу был недавно весьма успешно применен к итальянскому фашизму. Симонетта Фаласка–Зампони в своем анализе фашистского зрелища пришла к выводу о том, что «в своей тоталитарной логике фашистский режим признал недостижимость корней желания и воспринял их как вызов своему собственному управлению сферой социального. Не будучи в состоянии уничтожить принцип желания, режим последовательно предлагал репрезентативные решения, состоящие из соревнующихся репрезентаций. Фашизм превратился в цель потребления»[102]. «Фашизм как объект желания» располагается в сфере того, что она назвала «миметической экономией»[103]. Это и была экономия зрелища: «Политический аппарат режима был мобилизован на конструирование фашистского зрелища, которое эксплуатировало принципы и движущие силы, лежащие в основе потребления. В то же время режим пытался переместить и перевернуть современные принципы потребительской публичности, на которых базировалось его собственное зрелище»[104].
Иной подход – на этот раз к нацистской Германии – был продемонстрирован в известной работе Райнера Столлманна «Фашистская политика как тотальное произведение искусства»[105]. Он говорил о том, что фашизм создает «искусственную идентичность» («artificial identity»), используя символику, например, рабочего класса. В то же время созданная в нем публичная сфера характеризуется как ««прекрасная иллюзия», которая, однако, отличается от «прекрасной иллюзии» искусства, служащего средством для индивидуального психологического «ухода» от реальности. Фашистская иллюзия является фактическим результатом ухода от реальности мелкобуржуазных масс, которые социально–экономически и социально–психологически были наиболее предрасположены к подобному уходу»[106]. Это то, что, несомненно, сближает советский и нацистский опыт. Дальше начинаются различия. В нацизме, утверждает Столлманн, «функция прекрасной иллюзии искусства как компенсации, как частной возможности для «ухода» была заменена иллюзорной реальностью, в которой люди, массы, вроде бы освобожденные от своих «материальных», социально–экономических масок, вышли на сцену, но действовали, не контролируя своих действий или сколько‑нибудь ответственно»[107].
Иное дело – соцреализм, постоянно подчеркивавший, что искусство не «уход», не «отрыв от жизни»; отсюда – его «похожесть» на жизнь, «жизненность» (маски в сталинском искусстве не снимаются, но прирастают к лицам). Причину различий находим в самом нацистском опыте: «Принципиальная ценность литературы в Третьем рейхе отличалась от ее статуса в буржуазно–демократическом государстве. Переступать границу фашистской иллюзорной реальности было запрещено. Всякое отражение настоящей реальности за кулисами иллюзорной публичной сферы фашизма, не говоря уже о какой‑либо продуктивной, эстетической ее утилизации, расценивалось как преступление. Литературная и художественная техника, формы и образы могут быть только результатом продуктивной ассоциации с реальностью. Но литературе Третьего рейха было разрешено ассоциироваться только с непродуктивной иллюзорной реальностью, смешивать себя с ней. Отсюда можно было ожидать только эклектичных и эпигонских результатов. Такая литература могла иметь только вторичные, деривационные функции. Настоящий нацистский автор с самого начала провозглашал публичную иллюзорную реальность Третьего рейха в качестве правдивой реальности. Его производство имело поэтому целью представление этой «реальности» в качестве настоящего исполнения человеческого предназначения, в качестве «революции», «социализма», человеческого призвания и счастья. Национал–социалистическая литература есть, следовательно, иллюзия реальной иллюзии, без всякой трансцендентности. И это стало причиной ее падения. Всякое бегство было блокировано министерством пропаганды, СС и Гестапо»[108].
Соцреализм потому и отказывался служить «уходу от жизни», что стремился утвердить «иллюзию иллюзии» (то, что Мамардашвили называл «изображением изображения») в качестве «реальной иллюзии». Эта «реальная иллюзия» снимала саму идею «ухода» и «отрыва», меняя статус искусства сталинизма и делая функции соцреализма далеко не «вторичными». Сталинское искусство, будучи, несомненно, вполне манипуляционной «инженерией человеческих душ», тем не менее категорически отказывалось позиционировать себя (подобно нацистскому искусству) в качестве некоей «отдушины». Нацистскому лозунгу «Немецкой повседневности быть прекрасной!» сталинское искусство отвечало лозунгом «Прекрасное – это наша жизнь!», ликвидируя всякий зазор для возможного «отрыва» или «ухода». И только за пределами этого невозможного (а не предполагаемого, как в нацистской эстетике) зазора простиралось безбрежное пространство ГУЛАГа.