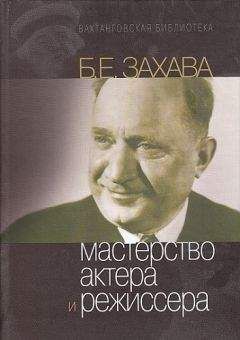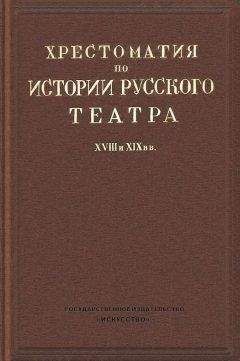Андрей Якубовский - Профессия: театральный критик
Март 1993 г.
Искусство не учит ничему, кроме понимания того, как значительна жизнь.
Генри Миллер. "Размышления о писательстве"
Чеховская драматургия универсальна. Она способна вписаться в любое время, выразить не только преобладающие его черты, но и самые тонкие оттенки духовной жизни. Это общее место тем не менее вспоминается при каждой новой встрече с той или иной постановкой чеховской пьесы.
Кажется, в театре текущего десятилетия Чехов стал самым репертуарным из классиков, обойдя самого Шекспира. В последние годы к драматургии Чехова обращались Брук и Ронкони, Палич и Шеро, Пен-тилье и Чулли, Штайн и Щербан, не говоря уже о Крейче, осуществившем недавно свою двадцать первую чеховскую постановку. Весь цвет мировой режиссуры внес свой вклад в сценическую историю Чехова конца XX столетия.
Остерегусь говорить об общности этих театральных опытов. Слишком различны национальные традиции и индивидуальности режиссеров, их содержательные и художественные установки. Тем не менее заметно тяготение к двум способам истолкования Чехова. Одни подключаются к традиции, пытаются учесть прежний опыт прочтения чеховских пьес. Другие ориентируются на неожиданные и, казалось бы, далекие от традиционного восприятия чеховского творчества современные театральные поиски.
Ничего странного ни в том, ни в другом нет.
Сценическая история Чехова необычайно богата. И при желании любой художник может отыскать в ней если не единомышленников, то хотя бы предшественников. С другой стороны, со времени написания последней чеховской пьесы — "Вишневого сада" — прошло без малого девяносто лет. За это время человечеством было столько видано, пережито, художественное сознание столь разительно изменилось, что вполне возможно предположить влияние на современный чеховский спектакль самых парадоксальных имен— Пиранделло, например, или Беккета, Чаплина, скажем, или Феллини. Все эти художники Чехову чем-то обязаны. Не пришла ли на исходе нашего столетия и их очередь "платить долги"?..
Речь не об исчерпанности традиционных подходов, обеспечивающих преемственность с театральным прошлым или пытающихся это прошлое впрямую оспорить. Объективно говоря, прямая полемика с прошлым является той же верностью ему, только с обратным, так сказать, знаком. Речь о том, что сегодняшний театр все чаще с этим прошлым демонстративно порывает, обнаруживая ту степень радикализма, которая наглядно включает последние чеховские постановки в орбиту новейшего философского и эстетического опыта, решительно пересматривая проблематику и строй его драматургии, обнаруживая в ней все новые возможности, извлекая из нее все новые созвучия живой, за стенами театра протекающей реальности.
Провидческими оказались слова Стрелера, осуществившего постановку "Вишневого сада" в 1974 году и открывшего ею, видимо, последний в нашем столетии этап осмысления чеховской драмы: "Настало время отдать себе отчет в том, что теперь надо попытаться представить Чехова совсем иначе... более универсальным, более символическим, более открытым фантазии..." При этом Стрелер предостерегал от опасности "впасть в отвлеченность, лишить всякого значения пластическую реальность Чехова". Он считал, что по отношению к чеховской драме вряд ли возможно утверждение: "все, что происходит, происходит сейчас и будет происходить вечно". Однако тот способ, которым он преодолел отмеченную им опасность, уже подсказывал реальную возможность выхода театра за пределы, Стрелером очерченные.
Стрелер попытался решить "проблему Чехова" с помощью трех "китайских шкатулок", которые вкладываются одна в другую. Меньшей "шкатулкой" стала для него "занимательная история про людей". Средней — "шкатулка Истории", в которой живые характеры, события, вещи "чуточку смещаются, остраняются". Наконец, самая большая — "шкатулка Жизни" — представляла частное и историческое бытие персонажей "в почти метафизическом измерении, внутри параболы судьбы". В этом "почти" — грань, которую Стрелер отказался перейти.
Режиссер создал спектакль психологически прописанный и отсылающий зрителя к символу, легкий и пронзительно трагичный, в котором ему в самом деле удалось передать одновременно и "биение сердца", и течение "реки Истории", и "вечную параболу... краткого земного существования". Он синтезировал и подытожил все прежние варианты прочтения чеховской драмы, никого при этом не повторив и не напомнив. И вместе с тем, как бы невзначай, открыл дверь в театральное будущее: весь Чехов "конца столетия" "вышел" из стрелеровского "Сада", невольно постоянно соотносился и соотносится с ним. Притом не только в зрительском восприятии, но и в театральной практике.
Чеховское время как бы разделилось на "до" и "после"...
Между тем, строго говоря, Стрелер ничего "не изобрел". Он сделал явным и соразмерил то, что прежде предчувствовалось в подтексте, зрело, что подчас порознь, подчас вместе уже проступало наружу. Стрелер идеально выверил модель и привел ее в действие, тактично выявил и на этот раз с идеальной гармонией соотнес три начала — психологию, социум, рок.
В словах "на этот раз" — вся сложность. Потому что гармония неустойчива сама по себе. Потому что далеко не всегда в дальнейшем стрелеровские "шкатулки" послушно вкладывались одна в другую, равно присутствовали в одном и том же спектакле. Потому что, в конце концов, нарушение гармонии, свободный диалог, даже спор между личностным, историческим и метафизическим и предполагает развитие живого, изменчивого ощущения чеховского универсализма, подразумевает преодоление того безупречного, но преходящего "канона", которым со временем обернулся стрелеровский "Вишневый сад".
Подтверждение этому пришло совсем недавно — в дни первого чеховского фестиваля.
Я вовсе не хочу сказать, что три "Вишневых сада", показанные тогда в Москве пражским Дивадло за Браноу-П, румынским Национальным театром и берлинским Шаубюне — плагиат по отношению к Стре-леру. Имена Отомара Крейчи, привезшего свою шестую версию "Сада", Андрея Щербана, уже ставившего "Вишневый сад" в Нью-Йорке, наконец, Петера Штайна, продолжившего "Садом" работу над Чеховым, начатую его великолепными "Тремя сестрами", — порука творческой самостоятельности. Тем не менее эти спектакли очевидно принадлежат "послестрелеровской" эпохе, располагаются в пределах значений, впервые с такой ясностью обнаруженных Стрелером в той же пьесе русского драматурга. При этом каждая из постановок тяготеет к одной из стреле-ровских "шкатулок", чему, видимо, есть свои причины.
Крейча доносит до нас атмосферу 60-х годов с их борьбой за право театра вглядываться в потаенные переживания человека, в несложившиеся судьбы, какими бы ничтожными они ни казались. Право на этот благородный демократизм сам Крейча оплатил сполна. Его спектакль совпал с той традицией психологического истолкования Чехова, корни которой — в первых мхатовских постановках, отчего назову ее "славянской".
Спектакль Щербана отсылает зрителя к недавним театральным временам, когда в сценическом искусстве активно практиковался "монтаж аттракционов" и наглядная ассоциативность (первое сместило звучание постановки в сторону комедии, второе стало проводником жестких социально-исторических акцентов). Любопытно, что, разрабатывая игровую среду и систему социальных координат, Щербан и то и другое осуществил с той степенью рационализма и мастерства, которые позволили безошибочно угадать в румынском режиссере художника, прошедшего школу американского театра.
Спектакль Штайна решительно не вмещается в краткую формулу. Это Чехов, которого режиссер пытается постичь едва ли не в космическом измерении, в категориях почти бытийственно воспринятого времени и сквозь призму определенного культурного уклада. Поверхностному наблюдателю работа Штайна могла показаться этаким "мейнин-генством", что с легкостью позволило бы отнести постановку к давней и исконно немецкой традиции. Спектакль Штайна, однако, антинатурали-стичен хотя бы потому, что в натурализме все живое опредмечивается, а здесь даже мертвая "натура" наделяется чем-то вроде живой "души"... Космизм, бытийственность и культурологичность настраивают на постижение метафизической целостности чеховской пьесы.
Встав рядом в фестивальной афише, эти три принципиально разных варианта "Вишневого сада" позволяют вести разговор о "послестреле-ровском" Чехове. Вместе с тем они обнаруживают некое "центробежное ускорение", которое зовет театр все дальше выйти за пределы нашего сегодняшнего понимания и ощущения Чехова. Не исключено поэтому, что разговор о постановках Крейчи, Шербана и Штайна выведет нас за рамки чеховского фестиваля к спектаклю, который, быть может, представит нам крайнюю степень доступной сегодня театру "радикализации" Чехова.