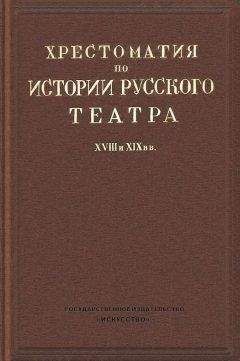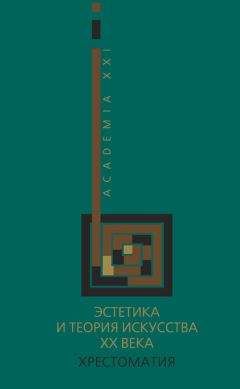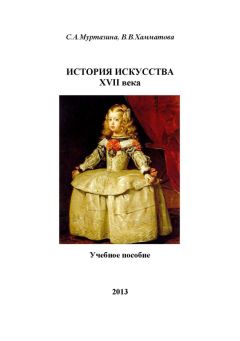Другая история русского искусства - Бобриков Алексей Алексеевич
Часть V
Финал 1909 года
Специфика ситуации после 1909 года заключается в пересечении двух тенденций: в наложении нового большого стиля (ищущего подлинности) на своеобразное выморочное искусство, исчерпавшее свои внутренние ресурсы, приблизившееся к завершению.
Выморочность — это последняя стадия искусственности, культивируемой новым искусством примерно с 1906 года. Это окончательная утрата не просто ощущения бьющей через край жизненной силы, а даже просто спокойной естественности, которой отличаются, например, многие вещи Бенуа или Остроумовой-Лебедевой (вообще стиль 1902 года). Это не связано прямо с кукольностью и игрушечностью (постепенно заменяющими телесность и вообще «подлинность» как таковую), присутствующими в искусстве после 1906 года; кукольность может обладать своей жизнью — веселой, яркой (даже слишком). Здесь постепенно исчезает и это; как будто гаснет свет. Живопись становится или сухой, серой, грязной, или уныло раскрашенной в один тон.
Таким образом, на уровне стиля это означает полную утрату естественности (какой-то естественной живописности, присутствующей до этого даже в самых «скурильных» вещах Сомова вроде «Осмеянного поцелуя»), какую-то абсолютную искусственность: неприятную резкость, жесткость, яркость, ровную глянцевость. На уровне общего (как бы интуитивного) ощущения выморочность воспринимается как мертвенность. Любопытен отзыв Репина (художника чистой телесности, обладавшего некоторой интуицией в различении живого и мертвого) об «Иде Рубинштейн»: «Что это? Гальванизированный труп! Какой жесткий рисунок: сухой, безжизненный, неестественный <…> И колорит серый, мертвый <…> труп, да, это гальванизированный труп» [985]. Показателен сам выбор слов. В нескольких строчках — три раза «труп», один раз «безжизненный» и один раз «мертвый». И это не ругательство, это точное описание — не только картины Серова, но и вообще некоторых новых тенденций в искусстве.
Именно около 1909 года возникает потребность в создании большого стиля нового искусства. С одной стороны, это связано с внешними причинами, в частности выходом нового русского искусства на мировую арену — с Русскими балетными сезонами Дягилева в Париже. С другой стороны, внутренняя потребность в новом большом стиле как некой завершающей стадии присутствует в самом новом искусстве — и в тех тенденциях, которые можно назвать поиском «соборности» (поздняя «Голубая роза» и вообще символизм), и в тех, которые можно назвать поиском «стиля» («Мир искусства»). Именно из осознания этих потребностей в 1909 году возникает журнал «Аполлон». В «Аполлоне» публикуется программный текст Бакста «Пути неоклассицизма в искусстве» (1909), проповедующий эру нового классицизма большого стиля (выморочный неоклассик Петров-Водкин — любимец раннего «Аполлона»). Декораторы Дягилевских сезонов — Бакст, отчасти Рерих — создают новый (тоже выморочный) романтизм.
«Ида Рубинштейн» (1910, ГРМ) интересна в первую очередь соединением двух серовских традиций: графической остроты и выразительности контура и возникшей после Греции архаической условности (скрытого стилистического историзма), переведенных к тому же в контекст большого стиля. Большой стиль — это не только более чем двухметровый холст. В «Иде» присутствует некая формульность, характерная для большого стиля: формульность образа, формульность стиля.
Ида Рубинштейн — это еще один женский миф эпохи. Миф европейский, петербургский, парижский; обнаженный, но полностью лишенный сексуальности; почти бестелесный. Образ этот создается, разумеется, стилем.
Первое, что бросается в глаза, — это «современная» острота (стиль «графического» нового реализма Серова). Графически стилизованная фигура, сделанная почти одновременно с последними (самыми выразительными) рисунками к басням и с сюжетами Навзикаи, дает силуэт, особенно эффектно выглядящий на практически пустом фоне [986]. Но здесь эта графика приобретает какое-то новое качество; силуэт лишен естественной природной пластики цапли или лисицы [987]. Наоборот, в нем преобладают прямые линии, рождающие ощущение искусственности. Подчеркнутая — специально культивируемая — худоба самой Иды здесь доведена до предела. В самой посадке, позе фигуры (ее насильственной развернутости в плоскости), угловатости чувствуется некий нарочитый «декадентский» излом.
Графически стилизованный колорит производит еще более странное впечатление: огромный холст — это, в сущности, протертый тряпкой и чуть (в некоторых местах) прокрашенный рисунок. Причем присутствие угля или графита ощущается даже в краске (именно оно дает этот глухой синий цвет). Отсюда — скорее из характера цвета, чем характера пластики — главное ощущение мертвенности. Или даже некой изначальной безжизненности как бестелесности самой Иды, некоего существа, рожденного в лаборатории (и стиля, рожденного там же). Другого большого стиля — и другого искусства — новый реализм, начинавший когда-то с абсолютной естественности, в конце эволюционного цикла породить не может.
Формульность стиля проявляется в том числе и в постоянных попытках сравнивать «Иду» с другими формулами. Например, существует устойчивое представление — восходящее отчасти к Голлербаху (сравнившему «Иду» с «Олимпией» Мане), но главным образом к Наталье Соколовой — об «Иде» как о формуле нового классицизма эпохи модерна. Соколова понимает классичность именно как мотив, содержащий цитату или аллюзию, как классическую наготу или позу (предполагающую новую Венеру или Олимпию), как классический пустой фон. «Это <…> отнюдь не фривольный портрет. Это попытка найти современную „классическую“ формулу женщины-модерн <…> модерн позднего классицистического порядка <…> своеобразная, модернистская <…> „мадам Рекамье“» [988]. «Ида Рубинштейн» как декадентский ампир — идея, вполне заслуживающая внимания. И все-таки для неоклассицизма здесь, с одной стороны, слишком много графической остроты, восходящей к новому реализму, а с другой — слишком много какой-то новой архаической условности, уходящей куда-то за пределы Античности, Ренессанса, ампира. Серов говорил, что сама Ида — это «оживший архаический барельеф». Под словом «архаический» тогда подразумевалось «доклассический», то есть имелась в виду не только греческая архаика, но и Восток. Очевидно, что античного (даже раннего) здесь уже ничего нет. Античность, даже архаическая, слишком скучна для пресыщенного вкуса. В поисках остроты русское искусство в лице Серова и Бакста (а также Дягилева, для которого они оба работали) миновало греческих кор и отправилось дальше в глубину веков. Это, конечно, уже Восток с его новыми богинями, новыми мифами, новой пластикой движений [989]. Совершенно прав М. М. Алленов, говоря об эпохе, «предавшей Венеру ради Астаргы» [990].
Ранний Петров-Водкин был одной из главных ставок журнала «Аполлон» в создании искусства большого стиля, в первую очередь неоклассицизма (его первая выставка была устроена в редакции журнала).
Отношение к ранним вещам художника было разным: «одни видели в Петрове-Водкине „новейшего декадента“, у других с его творчеством связывались „аполлонические“ ожидания, утверждение неоклассической тенденции» [991]. И в этом нет никакого противоречия. Ведь речь шла не о простом возвращении к Пуссену, а о создании нового, декадентского, выморочного неоклассицизма, соответствующего духу эпохи.