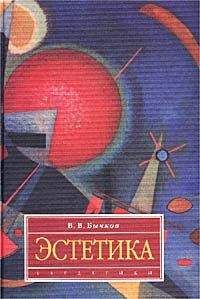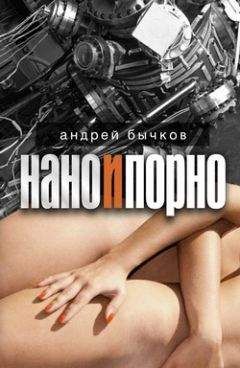Виктор Бычков - Триалог 2. Искусство в пространстве эстетического опыта. Книга вторая
Кит у берегов Тенерифе
Скалы Лос Гигантес.
Тенерифе
Впрочем, справедливости ради следует сказать, что и на самом Крите есть что посмотреть – это и знаменитый Кносос, овеянный мифологическими сюжетами о лабиринте Минотавра и нити Ариадны, и музей в столице Ираклионе с его археологическими и художественными ценностями. Но моя подлинная греческая любовь – Халкидики, о главном достоянии которых – Афоне – так вдохновенно написал В. В. На Святой Горе я, разумеется, не была, только проплывала мимо на пароходе, а вот по двум другим «пальцам» – Кассандре и Ситонии – путешествовала не менее десяти раз: особенно притягательна неповторимая живописность среднего «пальца» – Ситонии, с его многочисленными бухтами, пиниевыми лесами, извилистыми горными тропами. К тому же от Халкидиков не так уж далеко до Метеор с их фантастическим природным ландшафтом и великолепными храмами, кажется, чудом вознесенными на высоченные горные пики; а прекрасные византийские храмы и музеи в Салониках и того ближе.
Черный песок.
Тенерифе
Кносский дворец.
Крит. Греция
Скально-монастырский комплекс.
Метеоры. Греция
Прочтем, между тем, и следующее письмо В. В., швейцарское, точнее фрагмент из него, касающийся нашей темы.
В. Б.: Не могу, однако, не поделиться кратко еще и новыми впечатлениями от поездки в Швейцарию. (Здесь читаем вторую часть письма о Швейцарии № 281.)
Н. М.: Швейцария дарит, конечно, чисто эстетический опыт восприятия величия возвышенной природы, притом в одном из высших ее эстетических проявлений – прекрасных горно-озерных швейцарских пейзажах. Я и сама неоднократно путешествовала по Швейцарии именно с этой целью: полностью погрузиться в море неописуемых эстетических переживаний. Но и художественных тоже – вспомним хотя бы Центр Клее в Берне или произведения позднего Пикассо в музее Люцерна.
Монастырь Русана и скала Успокоения.
Метеоры
Н. Б. в Метеорах
Впрочем, эстетические путешествия самопроизвольно выбирают порой неожиданные маршруты. Так, на днях я побывала на открытии очередного фестиваля «NET». В Центр Мейерхольда на спектакль знаменитого швейцарского режиссера Кристофа Марталера пришло немало «профессиональных» зрителей – актеров театра и кино, режиссеров, театральных критиков, журналистов. Ведь в свой прежний приезд в Москву Марталер поразил нас минимализмом авангардистского толка в своей располагающей к медитации мистерии «Фама» на музыку Беата Фуррера[2]. На этот раз Марталер привез к нам свою недавнюю премьеру – «King Size». На сцене, действительно, пятизвездочный гостиничный номер с постелью королевских размеров – полигоном абсурдистских эскапад. Поразительно – спектакль этот как будто возвращает театральное сообщество лет на 60 назад, к театру абсурда Э. Ионеско и С. Беккета. Используются уже ставшие классическими абсурдистские приемы и ходы. Как известно, на языке театра абсурда философско-эстетические идеи А. Камю, Ж.-П. Сартра и других экзистенциалистов об абсурде, абсурдности существования, выборе, пограничной ситуации, отчуждении, одиночестве, смерти нашли свое выражение в алогизме слов и поступков персонажей, их некоммуникабельности, пространственно-временных сдвигах, отсутствии причинно-следственных связей, приемах шоковой эстетики, связанных с эстетизацией безобразного. Хотя театр абсурда обладает, разумеется, собственной художественной спецификой, отличающей его от экзистенциалистской театральной эстетики. Если в интеллектуальном театре Камю человек предстает мерой всех вещей, целостной личностью, акцент делается на человеческом достоинстве, логике мысли и действия, стоическом сопротивлении абсурду, то в большинстве пьес Ионеско и Беккета абсурду ничего не противостоит. Театр абсурда сосредоточен на кризисе самой экзистенции, «неумении быть», безличии личности, ее механицизме, рассеивании субъекта, отсутствии внутренней жизни. Человек здесь утрачивает четкие личностные очертания, «растекается», homo теряет свою sapientia, перестает быть sapiens, а вместе с этим лишается и возможности осознанного жизненного выбора.
Пабло Пикассо.
Стоящая обнаженная и сидящий мужчина с трубкой.
1968.
Собрание Розенгарт. Люцерн
По мнению Ионеско, само утверждение о том, что мир абсурден, также абсурдно, нелепо. Его пьеса «Лысая певица» манифестирует концепцию распада личности и ее связей с другими людьми и миром. «Среднестатистические» муж и жена обмениваются бессодержательными языковыми клише, фразеологическими штампами, банальностями, поданными как «поразительные истины» о том, что в неделе семь дней, пол находится внизу, а потолок – наверху и т. д. Смиты и Мартины – персонажи «Лысой певицы» – выражают автоматизм обессмысленного языка, «трагедию языка», утратившего информационные и коммуникативные функции. Театральные реплики приходят в беспорядок. В завязке пьесы часы бьют 17 раз; «Ну вот, девять часов», – констатирует в своей первой реплике госпожа Смит. Господин Смит сообщает, что неделя состоит из трех дней – вторника, четверга и вторника (на этот фрагмент моего пленарного доклада на конференции в Институте философии, посвященной 100-летию со дня рождения Камю, аудитория откликнулась «смехом и оживлением в зале» – ведь наши присутственные дни – как раз вторник и четверг… и опять вторник). Неумение говорить связано с неумением мыслить и чувствовать, тотальной амнезией. Простые истины, которыми обмениваются персонажи, оказываются безумными при их сопоставлении. Стандартизация психологии ведет к взаимозаменяемости персонажей и их реплик. Смиты и Мартины произносят одни и те же сентенции, совершают одинаковые поступки или то же самое «отсутствие поступков». Слова превращаются в звуковую оболочку, лишенную смысла, персонажи утрачивают психологические характеристики, мир – возможность истолкования: происходит крушение реальности, вызывающее у автора экзистенциальное чувство тошноты. В пьесе пародируются философские антиномии «простаков от диалектики»: «Короче, мы так и не знаем, есть ли кто-нибудь за дверью, когда звонят!» – «Никогда никого нет». – «Всегда кто-нибудь есть». – «Я вас примирю. Вы оба правы. Когда звонят в дверь, иногда кто-нибудь есть, а иногда никого нет». – «Это, по-моему, логично». – «Я тоже так думаю». Абсурдный диалог – это абстрактный тезис против абстрактного антитезиса без возможности их синтеза. Лысая певица, фигурирующая лишь в названии драмы, – символ механического, абсурдного соединения обессмысленных слов и мыслей.
В театре абсурда абсурдное трактуется как нелепое, лишенное смысла и логических связей, непостижимое разумом. Человек предстает вневременной абстракцией, существом, лишенным возможности выбора, обреченным на поиски несуществующего смысла жизни. Его хаотичные действия среди руин (в физическом и метафизическом смысле слова) отмечены повторяемостью, монотонностью, бесцельностью; их механически-автоматический характер связан с ослаблением фабульности, психологизма, заторможенностью сценического темпо-ритма, монологизмом (при формальной диалогической структуре), открытостью финалов (nonfinito). Так, в пьесах Беккета проблема выбора либо вообще не стоит, либо осмысливается ретроспективно как роковая ошибка. В первой, самой знаменитой его пьесе «В ожидании Годо» двое бродяг, Владимир и Эстрагон, ждут Годо. Исходя из этимологии (от англ. God – Бог), Годо может быть истолкован и как высшее бытие, и как непостижимый смысл жизни, и как сама смерть. Годо так и не появляется. Кажется, что время остановилось, но оно продолжает свой неподвластный разуму ход, оставляя неизгладимые следы старения, физического и духовного уродства. «Мы дышим, мы меняемся!» – восклицает Хамм, персонаж пьесы «О, счастливые дни!». – Мы теряем волосы, зубы! Нашу свежесть! Наши идеалы!» Слепота, глухота, паралич – материализация человеческого бессилия. Герой пьесы «Последняя лента Крэппа» – старый неудачник, слушающий сорокалетней давности магнитофонную запись своего монолога: он сделал тогда неправильный выбор, жизнь его пошла под откос и он post factum безрезультатно ищет свою ошибку (кстати, этот текст обрел сегодня новое дыхание: на фестивале «Сезон Станиславского» в октябре 2013 г. по нему были поставлены два совершенно разных спектакля – в первом Крэппа играл выдающийся режиссер Р. Уилсон, во втором – знаменитый немецкий актер К.-М. Брандауэр).
В спектакле Марталера тоже есть свой Крэпп – это всегда не к месту появляющаяся на сцене пожилая швейцарская фрау со старомодным ридикюлем, поначалу кажущаяся символом порядка в безумном хаосе происходящего. Но нет – ее бытовое поведение становится все более абсурдным: она тщательно расставляет пюпитры, на которых так и не появятся ноты, рожком для обуви выковыривает из сумки спагетти и жадно поедает их, клептоманически ворует гостиничный телефон и т. п. Однако к концу спектакля она все более напитывается экзистенциальной тоской Крэппа, становится своего рода знаком memento mori: с энной попытки, с огромным трудом забирается она на негнущихся ногах на табурет, чтобы попробовать открыть верхнюю полку шкафа: все напрасно, ничего не получается. Остальным же персонажам это так или иначе удается, но предел их мечтаний – оказавшийся почти вне пределов досягаемости мини-бар с соответствующими напитками. Их действия очень напоминают поступки Смитов и Мартинов: часто переодеваясь на публике, актеры представляют нам все новые типажи, но генотип абсурдного героя от этого не меняется. Они постоянно поют о любви, в том числе и в постели, но даже не пытаются не только прикоснуться друг к другу, но и вообще вступить в какие-либо человеческие контакты.