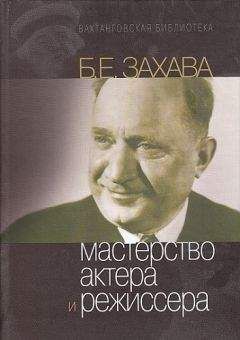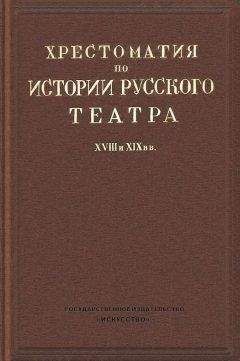Андрей Якубовский - Профессия: театральный критик
Основная интонация камерного по очертаниям спектакля "Дидро как он есть" (буквальный перевод названия — "Дидро опрометью") — влюбленность в жизнь. Парадоксально, но острее всего она прозвучала в финале, когда разошлись гости и Дидро остался наедине с Софи Вол-лан (эту роль тонко исполнила Катрин Селлер). Они покойно сидят в креслах и негромко говорят о том о сем — о житейской суете и грусти одиночества, о скрипе половиц и шуме дождя за окном, о любви, которая меняется с возрастом, но так и не проходит бесследно. И о том, конечно, что уже сделано в жизни и что только еще надлежит сделать Дидро, если, разумеется, удастся отвоевать у времени год-другой. Я не мог отделаться от впечатления, что этот финал, сдержанно решенный режиссером, сыгранный актерами почти вполголоса, содержит в себе какие-то очень близкие создателям спектакля мотивы — острое переживание неизбежных противоречий бытия и мужественное ощущение творчества как высокого долга художника перед миром.
Таким увидел я на этот раз Жана-Луи Барро — выдающегося мастера французского театра, поэта сцены и мыслителя, который решительно отказывается принять отчаяние и безверие и страстно защищает перед лицом безумного мира великую силу человеческого разума.
Нам, зрителям, привыкшим к тому, что пятиактные трагедии и комедии классиков повсеместно "укладываются" сегодня в прокрустово ложе двухчасового театрального представления, и четыре часа, проведенные в театре, пожалуй, покажутся обременительными. Ничего не поделаешь — стремительный ритм повседневности распоряжается и театральными обычаями. Спектакль Нового Национального театра Марселя "Грааль-театр" — в тех случаях, когда пьесы "Мерлин-волшебник", "Говен и зеленый рыцарь" и "Ланселот Озерный" показывают одну за другой, — продолжается десять часов кряду. Да, тут нет ошибки: 22 актера исполняют в нем роли 225 персонажей.
Преподаватель Парижского университета журналист Флоранс Делэ и известный своими поэтическими сборниками профессор математики Жак Рубо задумали написать цикл романов на материале древнего кельтского и бретонского эпоса. Им заинтересовалось парижское издательство "Галлимар", не так давно выпустившее в свет первые его части. Проработав многочисленные источники— от древних британских хроник и рыцарских романов Кретьена де Труа XII века до знаменитой, но отнюдь не последней версии "Романа о короле Артуре" Томаса Ме-лори (XV век) — и "обнаружив на чердаках европейской культуры", у самих истоков западной цивилизации, "великие сокровища эпоса и сказки", авторы придали своему труду диалогическую форму. Думается, однако, "Грааль-театр" так никогда и не обрел бы сценического воплощения, если бы им не заинтересовался Марсель Марешаль. Не случайно в одном из интервью, посвященном сценической реализации "романов-пьес" Ф. Делэ и Ж. Рубо, руководитель Нового Национального театра Марселя признался: "Чтобы решиться на постановку "Грааль-театра", надо быть немножко сумашедшим". Но обращение режиссера к столь необычному материалу не кажется неожиданным.
Жак Одиберти как-то назвал Марешаля "Гаргантюа в искусстве театра". В откликах на многие работы режиссера нередко можно встретить выражение "contre courant"—"идущий против течения". От Марешаля и в самом деле можно ждать всего: в каждой новой своей работе он как бы опровергает предыдущую, опробовая какие-то новые постановочные приемы, неожиданно трактуя пространство и вольно обращаясь со временем. Не эта ли ненасытная жажда новизны заставила Марешаля четыре года назад покинуть Лион, где его театр "Компани дю Котурн" пользовался прочным успехом у демократического зрителя, и начать в Марселе, втором после Парижа по численности населения городе Франции, все сызнова? Спектакли Марешаля роднит приверженность "поэтическому реализму", стремление противопоставить трезвости и прозе полет воображения и раскованную театральность. Порой режиссера упрекают за пристрастие к "штампам театрального празднества", однако именно богатство сценической палитры, склонность к многослойной конструкции и свободной организации сценического действия, связанные, на мой взгляд, с избытком творческой энергии, и позволили Маре-шалю наэтот раз осуществить рискованный постановочный эксперимент.
Французское искусство не в первый раз в нашем веке обращается к истории поисков священной чаши Грааля, к истории короля Артура и его рыцарей. Жан Кокто развил эту тему в романтическом ключе еще в 1937 году (пьеса "Рыцари Круглого стола"); затем Робер Брессон воспользовался ею, чтобы создать образ мира, гибнущего из-за разгула жестокости (фильм "Ланселот из Страны озер"); совсем недавно на экраны Франции вышел фильм Эрика Ромера "Персиваль Галльский", стилизовавший эпос в духе театральной игры. Какой же вариант интерпретации легенды предлагает Марешаль?
Андре Стиль писал в "Юманите", что спектакль Марешаля напоминает ему пестротканый ковер, в котором разноцветные нити сплетаются искусно и хитро: режиссер призывает зрителей "заблудиться в странном лесу рассказов — ярких и в то же время неопределенных, связных и одновременно противоречивых". Содержание спектакля и в самом деле не поддается последовательному изложению: не случайно в программах "Грааль-театра" — дабы зрители не заплутали в хитроумном движении сюжета — дается короткое "резюме действия" каждой части. Некая запутанность становится здесь ведущим структурным и стилеобразую-щим принципом, ибо мир спектакля — это преимущественно мир чудес.
Марешаль счастливо избегает соблазна воспользоваться примером Клоделя или Монтерлана и, углубившись в средневековье, не ищет там ни знаменитого "кельтского мистицизма", ни той или иной подновленной теологической доктрины. Он творит на сцене сказку, удивительную по красоте и поэтическому обаянию, своего рода зачарованную страну сновидений, в которой заколдованный замок Корбеник— замок Грааля — это волнующий образ мечты, издавна и всякий раз наново изобретаемый человечеством. И как любая сказка, которая, как и полагается, начинается словами "однажды жил-был король...", спектакль существует как бы в двух временах— "вчера" и "сегодня". Обращаясь к прошлому, он тяготеет к современности.
Спектакль Марешаля дает зрителю возможность обрести навсегда утраченное им детство и вместе с тем как бы заново пережить один из этапов "детства человечества" — тот драматический и очень значительный момент, когда средневековый человек впервые начал высвобождаться из жестких и обезличивающих рамок коллективного сознания, когда был сделан первый шаг к возникновению индивидуального самосознания личности. Обратившись к дальним истокам европейского гуманизма нового времени, к эпохе добуржуазных отношений, Марешаль говорит о духовном раскрепощении человека, поэтизирует богатство его внутренней жизни. Не случайно такое большое место в его спектакле занимает любовь — чувство, в котором личность всякий раз открывает для себя окружающий мир и вместе с тем самое себя. Однако сильная лирическая струя то и дело прерывается в постановке мотивами совсем иного рода— наивными театральными трюками, забавными фарсовыми "дьяблериями", а то и намеренными анахронизмами, снижающими поэтическую интонацию. В этом чередовании "верха" и "низа" реализуется своеобразие средневековой культуры, утонченно-рафинированной и вместе с тем простонародно-грубоватой. Но использование в спектакле "двойной театральной оптики", когда к восхищению примешивается насмешка, а романтика испытывается иронией, имеет и иные, сугубо современные объяснения.
Тоскуя по поэзии и красоте, создатели спектакля словно бы побаиваются обвинений в излишней наивности; стремясь обрести в далеком прошлом нетленные нравственные ценности, они не забывают, как неимоверно трудно защитить их сегодня; воспевая победу истины и добра, они постоянно напоминают о том, что "Грааль-театр" — всего лишь утопия.
В этом "супермарешалевском" спектакле соединяются простота и сложность, расчет и вдохновение. Три части "Грааль-театра" идут в одной декорации: художник Алэн Батифуйе оставляет весь объем сцены совершенно свободным, апеллируя к воображению зрителя, как бы "внушая" ему всякий раз новую "идею пространства" предельно лаконичными, сведенными к символическим обозначениям аксессуарами. Это вполне объяснимо: ведь почти каждый эпизод спектакля предполагает смену места действия. Изредка художник прибегает к объемной декорации: вот деревца с шарообразной кроной, словно бы перенесенные на сцену с полотен средневековых живописцев; вот обобщенный макет храма, рядом с которым, как это было принято в древней иконописи, подчинявшейся закону обратной перспективы, самый низкорослый человек кажется великаном. Столь же просты покрой и колорит костюмов: грубые материалы, строгие линии, однотонные, но необычайно яркие цвета, заставляющие вспомнить картины Мантеньи.