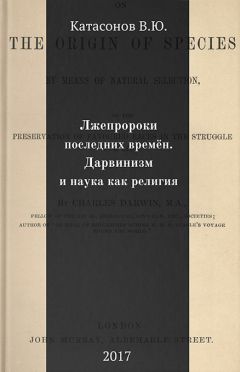Михаил Гиршман - Литературное произведение: Теория художественной целостности
Неполное согласие здесь вызывает только отождествление единства и единственности. Невозможность единственного причинно-следственного объяснения, как и невозможность единственного существования "Я" без «Ты», сочетается с не менее энергичной акцентацией единства движения, охватывающего все различные, в том числе и самые что ни на есть противоположные состояния и отношения "Я" и «Ты». Самым ощутимым здесь оказывается единство ритмическое, в котором смыслообразующими становятся даже такие ритмические частности и вроде бы «технические» детали, как сплошные кольцевые повторы начальных и конечных ритмических форм четырехстопного ямба во всех строфах, кроме третьей, причем повторы все более и более расширяющиеся, так что в первой и в последней строфе повторяются все ритмические формы: и их состав, и их последовательность.
Возвращения тех же самых ритмических форм вместе с развертыванием не только различных, но и предельно противоположных жизненных содержаний как раз и акцентируют их взаимообращенность. И если ритм вообще «есть превращение последовательности, которая сама по себе ничего не означает, в значащую» 6 , то значением здесь оказывается не какой-то единственный и определенный событийный, психологический или логический смысл, а смыслопорождающее общение – общение принципиально различных содержаний и систем координат: горизонтали реального существования, встреч, разлук, новых встреч и вертикали общечеловеческой «фабулы»: рождения – смерти – воскресения. Целью и основой поэтического целого становится у Пушкина идеал гармонии – согласного общения друг с другом этих различных содержаний.
"Я помню… " и «…явилась ты», стоящие рядом, ритмически обращаются друг к другу в принципе так же, как и во всеобще-возвращающемся «кольцевом» или «круговом» движении целого первое и последнее слово стихотворения: "я помню… " и «… любовь». Состояние памяти и любви, самостояние "Я" и обращенность к «ТЫ» – их единство столь же важно, как и их разде-ленность. Творчески созидаемое единство стихотворения – это проясняющаяся первичность живой взаимосвязи, общения того, что неминуемо должно оказаться и оказывается разделенным в реальности.
С. Бройтман склонен связывать «вероятностно-множественную» логику пушкинского послания, как и других его стихотворений, с лирическим диалогом, и для этого есть несомненные основания. Но в то же время творчески воссоздаваемая энергия первоначального общения всего впоследствии разделяемого кажется мне не специфически диалогической, а глубинно объединяющей лирический монолог и диалог, так что доминантной в монологе оказывается открытость-обращенность к другому, в диалоге же доминирует установка на согласие, а не на борьбу и победу. И по поводу «заранее заданной традиционно-канонической картины мира» дело обстоит, по-моему, несколько сложнее, чем в приведенном суждении С. Бройтмана: в мире пушкинского стихотворения едва ли просто отсутствует «регулирующая» роль «традиционно-канонической картины мира». Поэт если и творит вероятностно-множественный мир, то, во всяком случае, не как бог, играющий в кости. В пушкинском мире поэта-творца есть закон, им самим над собою признанный, и в мире этом в общении оказываются универсально-общечеловеческий канон – множество обращенных друг к другу традиций – единственность произведения, чудного мгновения гармонии.
На мой взгляд, одно из наиболее адекватных толкований «ситуации в границах пушкинского текста» сформулировал В. Маркович: «… объяснение внутренней связи нескольких явлений отсутствует, но очевидно, что такая связь существует и что она способна коренным образом изменить существующий мир». Поэтическое воссоздание гармонического преобразования мира в стихотворениях «Я помню чудное мгновенье …», "Во глубине сибирских руд … " и др. исследователь определяет как «сравнительно редкую в русской литературе собственно поэтическую утопию», принципиально отделяя ее от последующего «русского утопизма Х 1 Х– XX веков»: "Перед читателем – поэзия, которая призвана возвысить его душу и расширить горизонты его сознания, не уподобляясь ни религии, ни философии, ни общественной доктрине, ни учительной проповеди моралиста, – самодостаточно и самоценно. Пушкинская катарсическая утопия не вступает в противоречие с принципом «цель поэзии – поэзия» 7 .
Поддерживая и усиливая это направление мысли В. Марковича, я бы вообще не стал говорить в данном случае о поэтической утопии. В том-то и дело, что перед нами поэтическая реальность, поэтическое бытие, «Я помню чудное мгновенье» – это бытие памяти и любви, «Во глубине сибирских руд» или «Анчар» – это бытие свободы как несомненной поэтической реальности. Но эта поэтическая реальность не только не требует признания себя за действительность, но внутренне противостоит такого рода отождествлениям, не допускает их, заботливо выстраивая границы поэтического целого. В этих границах гармонический идеал и земная реальность оказываются в общении, но нигде и никогда полностью не переходят друг в друга. Поэтому не вполне точно говорить, что в «Я помню чудное мгновенье» «победа духа над косностью обычных законов земного бытия … возможна в собственных пределах земного бытия … высшим смыслом и возможностями высшего порядка может обладать естественное, посюстороннее явление. Свойство сверхъестественного переносится на естественное, и тем самым возвышено любовное переживание, содержание которого оказывается равнозначным чуду»8. В пушкинском стихотворении с самого начала и до конца звучит и ритмически развертывается живая связь чуда откровения и воскресения души и реальности жизненного события. Их взаимообращенность друг к другу в поэтическом бытии неотождествима ни с действительностью «земли», ни с идеальностью «неба». Не перенос «свойств сверхъестественного на естественное», а предшествующая разделению их объединяющая связь, их общение друг с другом – вот что становится реальностью в поэтическом бытии, осуществленном пушкинским стихотворением.
Цель осуществления поэтической реальности бытия-общения в слове не менее отчетливо просматривается и в пушкинских поисках прозаической художественной формы и способа рассказа. Кто, например, рассказывает сон в «Гробовщике» – первой из написанных «повестей» первого завершенного прозаического произведения Пушкина? Рассказ этот не может быть приписан ни только герою, ни только рассказчику, хотя и не может произойти без их участия и взаимодействия, без их взаимообращенности друг к другу. И в том, как "сама повесть незаметно для читателя в своей кульминационной части перемещается в его (героя. – М. Г.) «внутренний мир» 9 , проясняется не только невозможность разделения рассказа героя и рассказа о герое, но и необходимость первоначальной встречи их слов в формируемой общей «повести».
А чем яснее в написанном следом за «Гробовщиком» «Станционном смотрителе» герой и рассказчик противостоят друг другу как четко названные и разделенные ясными словесными границами разные люди, тем более ощутимо их рассказы обращаются друг к другу, так что проясняется глубинное единство и неделимость словесной основы их общения. Вот только один пример осознанности данного разделения, противостояния и взаимного движения друг к другу, отраженный в авторской правке. Фразе окончательного текста: «Потом, сунув ему что-то за рукав, он отворил дверь» – предшествуют в рукописи такие варианты: «Потом взяв несколько ассигнаций, сунул он мне за обшлаг…», «Потом взяв со стола несколько ассигнаций, сунул их ему за рукав – отворил двери…», «Потом взяв что-то со стола всунул ему за рукав – отворил двери…». В этой кульминационной сцене особенно интенсивно идет поиск и проясняются своего рода крайние точки: сначала говорит только смотритель, потом только рассказчик, и лишь затем находится предшествующее разделению их общее «что-то»: содержательная неопределенность предметов и точек зрения, их освещающих, адресует к тем глубинным основаниям их общения, смыслообразующий потенциал которых богаче каждой отдельно взятой и определенной позиции.
В приведенном примере действительно можно увидеть, как Пушкин последовательно изменял «язык рассказа», приближая рассказчика к герою повести»10. Но дело, как мне кажется, не только в этом. В «Станционном смотрителе" проясняется не столько общность рассказчика и героя, сколько словесная почва их общения, радикально превышающая и каждый отдельный кругозор, и их сумму. Рассказ, начатый Выриным, и формально, и по существу его содержания („Так вы знали мою Дуню?.. Ах, Дуня, Дуня! Что за девка-то была!“), естественно включает в себя отмеченную А. Ахматовой и вслед за нею всеми интерпретаторами „Станционного смотрителя“ „наездницу на своем английском седле“ – перевод бальзаковской фразы, несоотносимой впрямую ни с Выриным, ни с титулярным советником А. Г. Н. Но в своей взаимообращенности их слова оказываются открытыми для восприятия так, что А. Г. Н. может услышать рассказы и Вырина, и мальчика, а его рассказ в свою очередь может быть услышан многими другими людьми. При явной и неявной выраженности различных авторов этих рассказов художественное целое произведения не может быть соотнесено ни с кем из них исключительно: оно рождается в сфере их проясняющегося общения, полнота которого не может осуществиться в действительности, но становится поэтической реальностью в пушкинском прозаическом цикле.