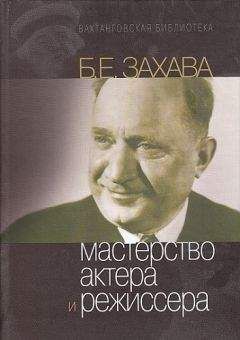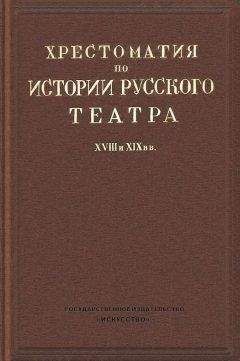Андрей Якубовский - Профессия: театральный критик
Но... вот эффектные строки о "похоронах сюрреализма", которые будто бы "состоялись в октябре 1969 года, когда в газете "Монд" "последний сюрреалист" Жак Шюстер опубликовал так называемую "Четвертую песнь" — "официальный некролог почившему Движению"... Может быть, может быть... Но я знаю и другое: в 1971 году, через пару лет после публикации "официального некролога", двадцатисемилетний Роберт Уилсон показал во Франции свою постановку "Взгляд глухого", после которой Луи Арагон, в ту пору уже глубокий старик, напечатал в "Леттр франсез" "открытое письмо" своему давно уже умершему другу и бывшему соратнику Андре Бретону. В нем он называл "Взгляд глухого" самым прекрасным спектаклем, который он видел в своей жизни, и признавал, что американцу удалось радикально решить едва ли не все проблемы, некогда стоявшие перед сюрреалистами...
Может быть, это какой-то "другой" сюрреализм? И уж во всяком случае, что совершенно ясно,— он существует, он "работает" в другой ситуации, в конце столетия. Но ведь снова подводятся итоги, и снова намечаются перспективы. Видно, такая уж судьба у этого самого сюрреализма— вспоминаться тогда, когда встречаются "концы" и "начала"...
(Современная драматургия. 1995. №4).
Роберто Чулли и его Театр ан дер Рур
Декабрь 2002 г.
Как я стал зрителем T.a.d.R*
В начале 80-х годов в Варшаве закончились "Дни Москвы", традиционное мероприятие, характерное для "эпохи социализма". Польские друзья попросили меня не торопиться с отъездом. Они обещали мне встречу с каким-то необыкновенным театром из Германии, который вот-вот должен был приехать на гастроли в Польшу.
В холле варшавской гостиницы "Форум" меня знакомят с руководителем Театра ан дер Рур. Общение с господином Чулли производит на меня приятное впечатление: прекрасный французский язык, мягкие манеры и доверительные интонации, привлекательные театральные идеи. В этот момент меня посещает крамольная мысль: как жаль, если этот симпатичный, интеллигентный, умный человек окажется посредственным режиссером...
Вечером первый спектакль T.a.d.R. — "Смерть Дантона" Бюхнера.
На меня обрушился поток ярчайших образов, вихрь поэтических метафор. Грубая клоунада соседствовала с возвышенным трагизмом. Театр показывал героизм революции и развенчивал миф о ней. Расширяя рамки исторической тематики, в нем прозвучала тема жизни и смерти, метафизические проблемы бытия. Поразило решение пространства: в центре сцены — серебристый куб, образ власти и эшафота; с него свергались вниз герои, на него упорно карабкались обыватели. Поразила актерская манера: при очевидной силе переживаний в ней постоянно присутствовала интеллектуальная отстраненность. Все это оказалось для меня так ново, неожиданно, так обострило ощущение сценического творчества, что я бросился на поиски господина Чулли.
Найдя его, забыв о приличии, я потребовал срочной беседы. К чести его, он, видимо, понял мое состояние. Мы сели где-то в сторонке, и в те получаса или более наша беседа сводилась к следующему: я рассказывал Чулли о своем восприятии его спектакля, а он изредка кивал головой и говорил: "Да-да", "совершенно верно"...
Этот диалог мы вели с Роберто около пятнадцати лет. После просмотра его очередной постановки — в Мюльгейме, Варшаве или Москве— я отзывал его в сторону и начинал излагать свои впечатления от его новой работы. А он, как будто все еще продолжая тот первый наш разговор, прерывал меня редкими репликами — "да-да", "совершенно верно"...
[* Театр ан дер Рур — Театр-на-Руре — возник в 1981 году по инициативе группы театральных деятелей — режиссера Роберто Чулли, драматурга Гельмута Шафера, декоратора Гральфа Эдцарта Хаббена и нескольких молодых талантливых актеров. Сложился как "общество с ограниченной ответственностью", т.е. товарищество, в момент, когда крупные государственные театры Германии все очевиднее начали переживать кризис. Осуществил идеальную компактную организационную форму; 5 администраторов (включая художественное руководство), 5 рабочих сцены, 16 актеров, сделавших его одним из самых живых и динамичных театральных коллективов Европы.
Получил поддержку властей небольшого промышленного городка Мюльгейм-на-Руре, географического центра "треугольника" Дюссельдорф-Дуйсбург-Кельн, а затем и области Северный Рейн-Вестфалия. Помимо субсидии, ему предоставили реконструированное помещение старых, заброшенных соляных бань.
В самое короткое время стал одним из известнейших театров Германии. Получил множество призов и премий как внутри, так и за пределами страны. Участвовал во многих театральных фестивалях и международных театральных акциях. Показывал свои спектакли во всех частях света.
Осуществляет большую работу по международному театральному сотрудничеству, проводя трехлетние фестивали "Театральный ландшафт" той или иной страны в контакте с художниками разных национальностей — цыганами, поляками, турками, хорватами, русскими и т.д. В настоящее время принимает самое активное участие в осуществлении международной культурной программы "Великий шелковый путь".]
Что я запомнил на всю жизнь
Театр ан дер Рур — это "мой театр". Он внес решительные перемены в мое восприятие театрального искусства и возможностей сцены. Он раскрыл передо мной такие творческие горизонты, о которых раньше я просто не догадывался. Он подарил мне счастливые минуты наслаждения подлинным чудом театра...
Такие минуты возникали в каждой его работе.
"Хорватский Фауст". Никогда не предполагал, что тема "художник и власть" может быть решена столь волнующим образом. Война и театр, любовь и ненависть, жизнь и смерть — обо всем этом поведали его "черные ангелы"-фашисты, его "белые ангелы"-партизаны, гигантские фигуры которых вели по сцене наподобие марионеток Фауста, Маргариту, Мефистофеля. Мне не забыть те бесконечные варианты прочтения трагедии Гёте, которые предлагал спектакль. Он и завершался началом представления какой-то новой, еще неведомой ее версии... А эти странные— и страшные! — "колокольчики судьбы", преследовавшие героев! Они и сегодня звучат в моих ушах...
"Три сестры". Спектакль поражал причудливой игрой ассоциаций, как будто театр вознамерился дать свод прочтений Чехова за последние тридцать лет. Затем Чулли давал свою версию пьесы. Показав в первых трех актах, сведенных в один, "балаган жизни", он во втором переводил действие в план "метафизики отчаяния", превращал чеховских героинь в образы беккетовского типа. Последним "жестом" этого удивительного для русского зрителя спектакля был жест мудрости и милосердия. На наших глазах чеховские сестры уходили в "пространство культуры", представленное узкой прорезью в заднике, уходили в "забвение", откуда в будущем их извлечет и истолкует какой-нибудь пока что не известный нам режиссер.
В "Вакханках" мы оказывались на кладбище культуры, под тонким слоем которой то и дело разверзались темные иррациональные пропасти. Не обретение античности, но тоска по ней, не вера в миф, но насущная потребность в нем звучали в спектакле. Свобода и роковая предопределенность, культура и варварство— вот с какими силами столкнулись горестные герои этой постановки "В ожидании Годо". Спектакль поражал человечностью и сдержанностью интонаций. На сцене шла "живая жизнь", представленная со всей возможной достоверностью. Казалось, перед нами разыгрывается пьеса Чехова — но только под музыку Моцарта и Пендерецкого, только насыщенная библейскими ассоциациями, только лишенная малейшего проблеска надежды. "Золотой век" невозвратим. Мы живем в "Железном веке", когда удел человеческий — либо молитва, либо забвение.
"Каспар". Спектакль выходил далеко за рамки темы: общество — система угнетения, язык — орудие принуждения. Каспар Хаузер оказывался девушкой, почти ребенком. Существо, совершавшее на сцене вынужденный прыжок из мира молчаливого варварства в мир болтливой цивилизации, заставляло вспомнить слова Энгельса: по тому, как общество относится к женщине и ребенку, можно судить о том, что это за общество. Завораживал ритуал приобщения Каспара к человеческому сообществу— смесь шаманства, дрессуры и зубрежки. В результате личность стиралась, превращалась в механическую куклу, одну из многих, сделанных по единому стандарту. Поражал второй акт спектакля, полностью сочиненный театром. На сцене был представлен мир после атомной катастрофы, утративший не только приметы цивилизации, но позабывший даже ее ключевые слова. "Бывшие люди" окружали Каспара в ожидании спасения и слова истины. Они слышали от него обрывки бессмысленных фраз, которым некогда сами его научили...
В "Трехгрошовой опере" театр дистанцировался от Брехта. На сцене разворачивался спектакль-"потеха", язвительная насмешка над дурным "немецким вкусом", явленным в цирковой клоунаде и всяческом фокусничестве. Режиссер "остранял" само брехтовское "остранение". В итоге единственным человеком, вызывавшим сочувствие в этом мире корыстных лавочников, бандитов и потаскух оказывался... Мекки-Нож. Он все-таки был личностью.