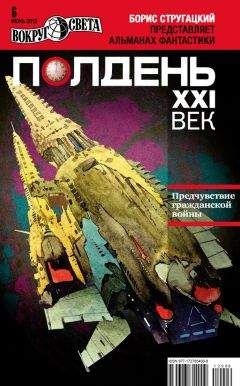Эрнст Кассирер - Философия символических форм. Том 1. Язык
Если иметь в виду эту цель, то станет ясным особое предназначение различных знаковых систем и их применение сознанием. Будь знак лишь повторением готового единичного содержания восприятия или представления, было бы непонятно, зачем нужна такая убогая копия налично данного и как добиться ее строгой адекватности. Ведь очевидно, что копия, снятая с оригинала, всегда недостаточна, а для умозрения и вовсе бесполезна. Поэтому неудивительно, что, ориентируясь на такую познавательную норму, неминуемо приходишь к принципиальному скепсису в отношении ценности знака вообще. Если подлинной и главной задачей языка считать воспроизведение речевым звуком той реальности, которую мы находим готовой в отдельных ощущениях и восприятиях, тотчас становится ясно, как бесконечно далек от решения этой задачи любой язык. По сравнению с безграничным богатством и многообразием данной нам в созерцании действительности все языковые символы должны казаться пустыми, абстрактными и неопределенными по сравнению с ее индивидуальной определенностью. Попытка языка соперничать в этом отношении с ощущением или созерцанием может лишь продемонстрировать его бессилие, πρώτον ψευδός5 * скептической критики языка заключается как раз в том, что этот масштаб предполагается единственно возможным. На самом деле анализ языка — особенно если исходят не из отдельного слова, а из единства предложения — показывает, что любое выражение языка далеко от того, чтобы быть просто отпечатком налично — данного мира ощущений или созерцаний, а скорее имеет самостоятельный характер «придания смысла». И это свойственно знакам самого разного вида и происхождения. В известном смысле обо всех них можно сказать: их ценность состоит не столько в том, что они сохраняют из чувственно — конкретного содержания в его непосредственной данности, сколько в том, что они в нем элиминируют и преодолевают. Так, художественное изображение становится тем, что оно есть и чем оно отличается от простого механического воспроизведения, лишь благодаря исключению из рассмотрения части налично данных впечатлений. Оно не является повторением последних в их чувственно воспринимаемой полноте, а извлекает из них определенные «выразительные» моменты, как бы взламывающие границы налично данного и ведущие художественно — творческую, синтетическую пространственную фантазию в определенном направлении. Сила знака состоит здесь, как и в других сферах, именно в том, что, по мере того как непосредственно содержательные определения отступают на задний план, общие моменты форм и отношений достигают все более ясного и чистого выражения. Частное как таковое вроде бы ограничивается; но именно благодаря этому все большую определенность и силу получает деятельность, которую мы называем «интеграцией в целое». Всякое частное в сознании «существует» лишь благодаря тому, что потенциально заключает в себе целое и как бы находится в постоянном переходе к нему. Однако лишь применение знака открывает возможность для свободной актуализации этой потенции. Одним знаком мы и в самом деле схватываем тысячу связей, резонирующих в нем с большей или меньшей силой и отчетливостью.
Создавая знаки, сознание все больше освобождается от непосредственного субстрата ощущения и чувственного восприятия, однако именно этим оно убедительно доказывает изначально скрытую в нем способность связывать и соединять.
Пожалуй, наиболее явно эта тенденция проявляется в функции научной знаковой системы. Абстрактная химическая «формула», обозначающая определенное вещество, не содержит в себе ничего, что нам известно из непосредственного наблюдения и чувственного восприятия данного вещества; зато она включает отдельное физическое тело в чрезвычайно многообразный и утонченно структурированный комплекс отношений, вообще неведомый восприятию как таковому. В ней физическое тело обозначается, исходя не из того, что оно «существует» как чувственно воспринимаемое, и не на основании того, каким оно непосредственно дано в чувствах, а рассматривается как совокупность возможных «реакций», каузальных взаимосвязей, определяемых общим правилом. Эта совокупность закономерных связей настолько спаяна в конститутивной химической формуле с выражением отдельного, что благодаря ей оно получает совершенно новый характерный профиль. Здесь, как и в других случаях, знак — посредник при переходе от простого «материала» сознания к его духовным «формам». Именно потому, что знак лишен собственной чувственной массы и, так сказать, парит в чистом эфире значения, он представляет не отдельные части сознания, а весь комплекс его движений. Он — не отражение стабильного содержания сознания, а директива таких движений. Например, слово, с точки зрения физического субстрата, — всего лишь дуновение воздуха: но в этом дуновении таится необычайная сила, воздействующая на динамику представления и мышления. Знак влияет не только на интенсивность этой динамики, но и регулирует ее. Еще в проекте Лейбница «Characteristica generalis» к существенным достоинствам знака отнесено то, что он служит не столько изложению, сколько обнаружению определенных логических взаимосвязей, не только символически резюмирует знание, но и открывает новые пути в неведомое, в то, что знанию еще недоступно. Здесь сознание демонстрирует свою синтетическую силу, которая выражается в том, что достигнутая им концентрация содержания тотчас становится импульсом для расширения своих прежних границ. Вот почему синтез, представленный в знаке, всегда вместе с ретроспективой открывает и новую перспективу. В нем полагается относительное завершение, которое в то же время дает прямой толчок дальнейшему движению, расчищая для него путь и открывая возможность познать его общее правило. В истории науки достаточно таких примеров: они свидетельствуют о том, как много значит для решения конкретной проблемы или комплекса проблем их четкая и ясная «формулировка». Так, еще до Лейбница и Ньютона была поставлена и принята во внимание — в алгебраическом анализе, геометрии, механике — большая часть проблем, решенных впоследствии с помощью ньютоновского понятия флюксии и алгоритма дифференциального исчисления Лейбница. Но лишь благодаря тому, что для них было найдено единое всеобъемлющее символическое выражение, они стали вполне решаемыми: вместо набора шатких и разрозненных вопросов был сформулирован принцип их происхождения из одного определенного общедоступного метода, из одной основополагающей операции со строго установленными правилами применения.
Итак, в символической функции сознания представлена и опосредована противоположность, данная уже в простом понятии сознания. Всякое сознание представлено в виде временного события, но в центре этого события должны находиться определенные «формы». Момент непрерывного изменения и момент постоянства должны, следовательно, переходить друг в друга. Таково общее требование, которое по — разному выполняется в конструкциях языка, мифа, искусства и в интеллектуальных символах науки. Казалось бы, все они непосредственно принадлежат живому, постоянно обновляющемуся процессу сознания: и в то же время ими владеет стремление остановиться, найти определенные точки покоя. В них сознание демонстрирует характер непрерывного течения, но его поток представляет собой не что‑то неопределенное, а намывает из самого себя твердые средоточия форм и значений. Каждая такая форма, как чистое «бытие в себе», αυτό καθ' αυτό в платоновском смысле, извлекается из потока представлений, но ведь для того, чтобы вообще явиться, приобрести «бытие для нас», она одновременно должна каким‑то образом репрезентировать себя в этом процессе. Оба этих условия выполняются в создании и применении различных систем знаков и символов, потому что здесь чувственно — воспринимаемое единичное содержание, оставаясь таковым, способно представлять сознанию общезначимое. Вот почему здесь теряет силу и главный принцип сенсуализма «Nihil est in intellectu, quod ante fuerit in sensu», и его интеллектуалистская антитеза. Ведь речь идет уже не о предшествовании или последовании «чувственного» по отношению к «духовному», а о выражении и манифестации основной функции духа в чувственном материале. С этой точки зрения абстрактный «эмпиризм» и абстрактный «идеализм» одинаково грешат односторонностью, потому что в обоих течениях это принципиально важное отношение не разработано до полной ясности. Одно выдвигает понятие налично данного и единичного, не признавая того, что такого рода понятие, эксплицитно или имплицитно, всегда уже включает в себя моменты и определения общего, другое утверждает значимость и необходимость последних, но не указывает на то опосредование, с помощью которого они только и могут явить себя в психологической данности сознания. Однако если исходить не из какого‑то абстрактного постулата, а из конкретной формы духовной жизни, то эта дуалистическая противоположность оказывается снятой. Первоначальная иллюзия непроходимой пропасти между мыслимым и чувственным, между «идеей» и «явлением» исчезает. Ведь если мы и остаемся в пределах мира «образов», то речь идет не о таких образах, которые отражают сущий в себе мир «вещей», а об образных мирах, принцип и происхождение которых следует искать в автономном творчестве духа. Лишь в них и посредством них для нас существует то, что мы называем «действительностью»: истина, объективная в той мере, в какой она вообще может открыться духу, — это в конечном счете форма его собственной деятельности. В тотальности видов своей деятельности, в познании специфических правил, руководящих каждым из них, и, наконец, в сознании взаимной связи, сводящей все частные правила в единство одной задачи и ее решения, — лишь так, как мы теперь знаем, дух постигает сам себя. Что представляет собой абсолютная реальность вне этой совокупности духовных функций, что есть в этом смысле «вещь в себе» — на этот вопрос дух больше не стремится получить ответ, постепенно учась понимать его просто как ошибочную постановку проблемы, иллюзию мыпшения. Истинное понятие о действительности не дает втиснуть себя в примитивную абстрактную форму бытия, но поднимается до многообразия и богатства форм духовной жизни — такой жизни, на которой лежит печать внутренней необходимости и, следовательно, объективности. Каждая новая «символическая форма» — не только понятийный мир познания, но и образный мир искусства, мифа или языка — это, по выражению Гёте, откровение, идущее изнутри вовне, «синтез мира и духа», впервые гарантирующий их подлинное первоединство.