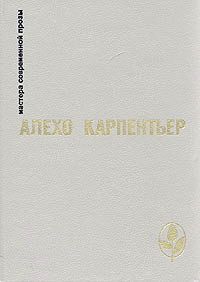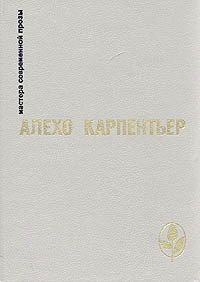Александр Строев - Авантюристы Просвещения: «Те, кто поправляет фортуну»
Три основных типа философов Просвещения воплощают Вольтер, Дидро и Руссо. Первый — человек, преуспевший во всех областях: философии, литературе, истории и, что очень важно, в денежных делах. В своих «Мемуарах» (1759) он рисует мудреца, живущего в уединении, спокойствии, довольстве и полной независимости. Бывший наперсник монархов, он с философской радостью видит, что короли не столь счастливы и покойны и что его положение предпочтительнее[97]. При этом финансовой независимостью он гордился едва ли не больше, чем литературными достижениями. Вольтер был человеком практичным и оборотистым, истинным буржуа, хотя его семья и получила дворянство. В мемуарах своих он советовал: чтобы составить состояние, надо внимательно читать правительственные указы. Вольтер мигом находил в них слабые места и предмет для финансовых спекуляций. При всем своем затворничестве фернейский патриарх отстаивал идею союза элит, философов и знати, дабы произвести преобразования сверху (эта мысль была близка и д’Аламберу). Литературную богему Вольтер презирал и третировал[98].
Дидро, напротив, относился к своим нищим собратьям с интересом и симпатией («Племянник Рамо»), Человек энциклопедических знаний, но увлекающийся, рассеянный, неловкий в практической жизни, он столь энергично жестикулировал, беседуя с Екатериной II, что императрице пришлось поставить столик между ними, чтобы уберечься, — у нее все ляжки были в синяках. Друзья и враги называли его неподражаемым оригиналом, шестидесятилетним ребенком, говорили, что он грезит наяву, не дорожит ни временем своим, ни славой.
И последний, Руссо, — осмеянный и прославленный безумец, утопист и пророк. В предисловии к роману «Удачливый философ» (1787) Р. М. Лезюир писал, что мания преследования — расхожая болезнь литераторов. Удрученные своими бедами, они считают их результатом всеобщего заговора и во всех окружающих видят правительственных шпионов. Но Руссо, по его мнению, к тому же возвышенный безумец, пророк[99]. Как показал Жан Старобинский, анализируя восходящий к Библии образ больного пророка, Руссо мазохистски преувеличивал свои страдания и страхи, подсознательно усиливал свои болезни, как бы закрываясь ими от общества и от общения[100]. О безумии Жан-Жака профессиональные врачи и дилетанты написали многие тома.
Сам Руссо отказывался причислять себя к литераторам, ибо они делают одно, думают другое, а пишут третье. Он отстаивал единство жизни и творчества (быть и казаться)[101], и при этом нарушал все свои заповеди: педагог, он сдал детей в приют; противник театра и аристократов, он сочинил пьесу для представления при дворе. При разрешении философских и житейских проблем он старался поступать наперекор общепринятым идеям и нормам. Он усиленно создавал легенду о своем бессребреничестве, непокорности и неудачах и старался следовать ей. Сам себе судья и палач, Руссо жаждал и добивался преследований, обид, болезней, одиночества и нищеты.
В русском некрологе величие женевского гражданина доказывается именно через праведность жития: «Но все сие не может стать в сравнение с добродетельностью жизни сего философа. Гонимый, вечно скитающийся, кроющийся, терпящий все нужды, все недостатки, все обиды, кои невинный человек терпеть может, то есть клевету и зависть, не токмо не мстил, но ниже на кого не жаловался. Хотя никому преоборение не было так легко, как сему сильноречивому писателю, но терпеть и прощать было его и правило и чувство. Никто не мог склонить его, ни в какой нужде, принять какое-нибудь вспоможение […] Впрочем, одни сочинения его могли бы произвесть ему безбедное состояние, но мысли свои и наставления не считал он продажным товаром, а ставил в цену только свою ручную работу, которая состояла в переписывании нот музыкальных и за которую он брал по десяти копеек французских со страницы»[102].
Для Руссо, как для евангельских пророков, для юродивых и для персонажей Достоевского, скандал — главная форма разрешения всех жизненных ситуаций и созданных им самим конфликтов.
* * *Авантюристы, как правило, подражают щеголям, но внутренне они близки философам. Поэтому отношения с первыми у них идилличны, со вторыми — напряженны и драматичны. Авантюрист, человек из третьего сословия, следует светскому этикетному поведению в одежде, речах, манерах, отношениях к женщинам, в особенности если он выезжает за пределы Франции. Венецианец Казанова гордится своим парижским арго, позволяющим тотчас отделить своих от чужих и в Петербурге в 1765 г. («Я не узнаю ее по голосу, но по речам уверяюсь, что эта маска хорошая моя знакомая, ибо непрестанно слышу словечки и обороты, что я ввел в моду в парижских домах» — ИМЖ, 554), и в Италии в 1772 г. Он пишет в мемуарах о своей книге «Бестолочь. Послание одного ликантропа» (1772)[103], опубликованной по-итальянски: «Я вставил туда предисловие на французском, используя одни лишь простонародные парижские словечки, никому не понятные. Шутка эта доставила мне близкое знакомство с многими молодыми людьми» (HMV, III, 961). Язык формирует аудиторию — избранную, просвещенную, космополитичную, благородную. Когда же, напротив, Клод Патю остроумно изъясняется по-итальянски в стиле Боккаччо, то Казанова убеждает его, что говорить так не следует.
Но при всем сходстве щеголя и авантюриста фигуры эти отнюдь не тождественны. На театре светской жизни первый — зритель, самое большее статист, тогда как второй — автор и комедиант. Модник болтает, искатель приключений творит. Щеголь, переносчик новостей, гордится тем, что он раньше всех оказывается в курсе событий; авантюрист тоже, как правило, блестящий рассказчик, но предпочитает, чтобы говорили о нем. Пересказывая истории из своей жизни, он столь гордится ими, что отказывается что-либо менять в повествовании. Даже для всесильного герцога де Шуазеля Казанова отказался сократить свой двухчасовой рассказ о побеге из Пьомби, которым снискал успех у парижан.
Щеголь — житель столицы, авантюрист вынужден беспрестанно покидать ее. Щеголь может блистать только в своем кругу, для авантюриста чужбина — дом родной. Казанова стремится соблазнять всех, от крестьянки до императрицы, из дворца он попадает в избу, дневные литературные дискуссии с Вольтером перемежаются вечерними оргиями. При этом он все равно остается чужим и привлекает внимание именно своей непохожестью. Ревнивое противоборство авантюристов с философами проистекает именно из близости их «антиповедения».
Вольтер, Руссо и авантюристы
Для многих авантюристов Вольтер — едва ли не главный пример для подражания. Они либо стремятся преуспеть в тех же областях, что и фернейский отшельник, нередко встречаясь с теми же людьми (подобно ему, Казанова сотрудничал с финансистом Пари-Дюверне, ссорился с семейством де Роганов), либо пытаются использовать славу Вольтера, составить репутацию, выступая в роли его ученика или соперника.
Прославленный философ, писатель, историк, властитель дум, советник монархов, богач, Вольтер в глазах искателя приключений воплощает образец удачливости и недостижимый идеал, реализует его мечты и проекты. Да и у самого Вольтера в глубине души есть что-то от авантюриста, его терзает комплекс незаконнорожденного, парвеню, которого презирают аристократы. Ему ведомы резкие перемены судьбы, взлеты и падения, его прославляли и били палками, арестовывали, ссылали. Состояние он составил не творчеством, а спекуляциями, нередко не слишком благовидными. Фридрих Великий сильно гневался на него за махинации с саксонскими ценными бумагами. 30 января 1751 г. он писал своей сестре, маркграфине Байрейтской: «Вы спрашиваете, что за тяжба у Вольтера с жидом? Судится плут, который хочет надуть мошенника. Нельзя, чтоб человек с умом Вольтера так злоупотреблял им […] Он вел себя как сумасшедший»[104]. Вольтер — игрок по характеру своему; азартный картежник, он полагает, что игра делает людей равными и свободными: «В мире есть только один образцовый закон, регламентирующий ту разновидность безумия, что зовется игрой: лишь ее правила не допускают ни исключений, ни послаблений, ни разночтений, ни тирании»[105]. Вольтер добивается успеха там, где авантюрист разоряется или довольствуется малым, в том числе в лотерее. Сочинив уйму финансовых проектов, искатели приключений разоряются так же быстро, как богатеют, и умирают в нищете. Патриарх, напротив, получал в шестьдесят шесть лет 120 ООО ливров годовой ренты (по свидетельству Казановы), а в конце жизни уже 231 300 ливров, и был среди двадцати крупнейших рантье Франции.
Вольтер в беседах, письмах и сочинениях стремился воспитывать просвещенных монархов, что, разумеется, было делом непростым и с Фридрихом II, и с Екатериной II. Авантюрист более всего завидовал этой роли и наименее успешно с ней справлялся.