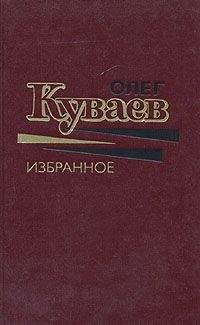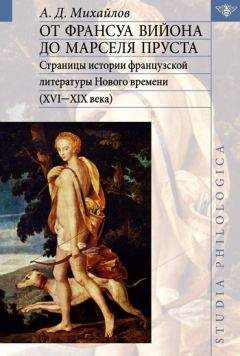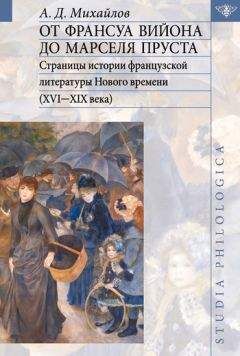Юрий Рюриков - Три влечения. Любовь: вчера, сегодня и завтра
Поэтому в античной поэзии начинает звучать нота нескончаемости любовного чувства. Проперций пишет:
Тот, кто безумствам любви конца ожидает, безумен:
У настоящей любви нет никаких рубежей.
Слова эти, конечно, иллюзорны: все мы знаем, что вечной любви нет, и поэзия, которая говорила о любви до гроба и после гроба, питалась утопическими взглядами – то наивно романтическими, то религиозными, мистическими.
Но Проперций лишен восторженности трубадуров, он понимает, что счастье мгновенно, что оно быстро проходит. И именно потому, что он горестно ощущает всю его быстротечность, он и хочет, чтобы оно было всегда. И это еще одна примета настоящей индивидуальной любви – желание, чтобы она не кончалась, невозможность представить, что она когда-то умрет.
Такой строй ощущений рождала в людях и развивающаяся в них личность и вся трагически-вакханальная атмосфера тогдашней жизни: водоворот смертей и произвола, ощущение неустойчивости и заката. Проперций с болью видит это противоречие любви, он ищет выхода из этого заколдованного круга, ищет и находит его. Он пишет о счастливейшей ночи, которую подарила ему возлюбленная:
Если захочет она дарить мне такие же ночи,
Год я единый сочту равным всей жизни моей.
Ежели много их даст, то стану тогда я бессмертным:
Каждого ночью одной в бога она превратит.
Счастливая любовь делает день любви равным году обычной жизни, а год – равным бессмертию. Любовь превращает человека в бога, она как бы дает ему вечность, – так он решает это яростное противоречие между мимолетностью любви и тягой к ее нескончаемости, к ее бессмертию.
Конечно, не стоит думать, что любовь была в те времена одним только вихрем наслаждений. Античная лирика – и греческая и римская – много говорит и о бедах, горе любви, о терзаниях и тоске, которую она дает. И в самой жизни было, наверно, много тяжелой, тусклой любви – любви в ярме рабства, закабаления, бедности. Любовь стояла тогда вне рамок семьи и общества, женщина, порабощенная в семье, была чаще всего существом неразвитым, она быстро тускнела и из женщины становилась просто хозяйкой дома, просто матерью детей.
Любовь, которую воспевали греческие и римские лирики, была чаще всего любовью к гетерам, женщинам выдающимся, исключительным. Энгельс говорил о них, что это «единственные яркие типы греческих женщин, которые так же возвышались над общим уровнем женщин античности своим умом и художественным вкусом, как спартанки своим характером»[16].
Уровень любви к этим женщинам был равен их собственному высокому уровню, и он мог сильно отличаться от обычной любви в жизни, мог быть намного выше ее; об этой разнице между вершиной и подножьем стоит помнить всегда.
Что касается «субъективной глубины чувства», в которой отказывают древним, то психология их любви часто совсем не однолинейна, – особенно когда они говорят о противоречиях любви, о горе, которое она дает им. Катулл, например, писал:
И ненавижу ее и люблю. Это чувство двойное!
Боги, зачем я люблю! – и ненавижу зачем!
Биение противоположных чувств, борьба любви и нелюбви – обо всем этом много говорили поэты эллинизма. Вот, например, элегия Овидия «Много я, долго терпел».
Я победил, я любовь наконец попираю ногами, —
говорит он о борьбе с собой, которую породили в нем измены Коринны. Он рассказывает о своих муках, о ее вероломстве, он ликует, что теперь он свободен, – и вдруг с болью и недоумением замечает, что его тянет к ней:
Борются все же в груди любовь и ненависть… Обе
Тянут к себе…
Нрав недостойный претит, – милое тело влечет…
Если б не так хороша ты была иль не так вероломна!
И он бессильно говорит:
Так, не в силах я жить ни с тобой, ни в разлуке с тобою,
Сам я желаний своих не в состоянье постичь.
Непростота чувств – хотя и чуть схематичная – не уступает тут многому в позднейшем искусстве. Это уже первое – пусть далекое – предварение той психологической сложности, которая появится позднее у Петрарки или у Шекспира, и это еще раз говорит об усложняющихся переменах в самом укладе человеческих чувств.
В одной из своих вещей Проперций говорит, что любой пустяк, любая мелочь, которая напоминает ему о милой, рождает в нем стихи. Он готов писать целые элегии о ее одежде, о ее прическе, пальцах, о том, как она играет, ходит…
Если же дрема смежит ей усталые глазки,
Сыщет поэт для стихов тысячу новых причин;
Если на час со мной затеет борьбу за одежду —
Буду я рад сочинить целые тьмы «Илиад».
Что б ни сказала она и что бы ни сделала, тотчас
Из пустяка у меня длинный выходит рассказ.
Здесь, как на срезе дерева, видно, как в человеческое сознание входит масштаб отношения к человеку. Любовь делает самоценным каждое движение любимого человека, каждую частицу его тела, его облика. Она – пока еще в первом приближении – начинает вводить в искусство «психологию подробностей», расширяет диапазоны психологии, добавляет в человеческую этику и эстетику целые новые области жизни.
С ходом цивилизации все больше распадается древний синкретизм, все дальше уходят времена, когда духовность еще не вышла из лона телесности. Теперь она часто уже самостоятельна, независима, уже существует сама по себе. Любовь все больше пронизывается духовными тяготениями, и это видно не только в лирике, но и в позднеантичном романе – в сказании об Амуре и Психее из «Золотого осла» Апулея, в «Левкиппе и Клитофонте» Ахилла Татия, в «Повести о любви Херея и Каллирои» Харитона и особенно в «Эфиопике» Гелиодора, романе, который служит как бы мостом к позднему Средневековью и который явно предвосхищает мироощущение той эпохи.
За времена Античности любовь проходит расстояние от Афродиты Пандемос – через Афродиту Книдскую – до Афродиты Урании. Телесный эрос сменяется любовью, в жизнь человечества, в его психологию входит совершенно новая, гигантская область, которая резко меняет и психологию людей, и их мораль, и всю систему их представлений о добре и зле, счастье и горе.
Но только ли одни приобретения дала людям любовь? Не потеряло ли что-нибудь человечество с этим переходом от эроса к любви?
Федра из еврипидовского «Ипполита» спрашивает кормилицу:
– Ты знаешь ли, что это значит – «любить»?
И та отвечает:
– Да, слаще нет, дитя, и нет больней.
Для древних любовь – смесь меда и яда, и недаром их трагедия с таким страхом писала о ней. Вместе с появлением любви резко выросли не только радости жизни, но и – пожалуй, еще больше – ее горести, ее боль, тревога. Любовь – огромный психологический усилитель восприятия, и она увеличивает в глазах людей и счастье и несчастье, – и, может быть, несчастье даже больше, чем счастье. И поэтому так много горя и боли в античной драме, в античной лирике, – да и вообще у поэтов всех других эпох – от Петрарки до Блока и Маяковского.
Входя в жизнь человечества, любовь меняет весь строй ее ценностей. Это совершенно новый стимул среди стимулов человеческого поведения, и, появляясь, он бросает свой отсвет на все другие стимулы, смещает их равновесие, резко меняет пропорции. Простота человеческой жизни теперь пропадает, рождение любви запутывает, усложняет индивидуальную жизнь, лишает ее былой ясности и цельности.
В эпоху социальной и материальной несвободы, во времена низкого жизненного уровня и неравенства она несет людям особенно много бед, резко усиливает их боль от невзгод жизни. Это делает не только несчастная, безответная любовь, но и любовь счастливая, разделенная. Один только контраст между слепящими радостями, которые дает любовь, и тусклыми невзгодами, которые отравляют жизнь любящих, резко увеличивает горести людей, делает их невыносимыми. Любящий человек вообще более уязвим, более чувствителен, чем нелюбящий, – все мы знаем это.
Конечно, в разные времена и у разных людей все это выглядит по-разному. Но ясно одно, – и это давным-давно стало понятно людям: любовь приносит человечеству не только свет, но и мрак, она не только поднимает, но и гнетет человека.
Культы любви: Прованс, Аравия, Индия
В начале нашего тысячелетия в Европе начался большой и важный переворот. Много веков стоявшая до этого на втором плане искусства, любовь вдруг выходит на его авансцену и делается его основой и осью.
Падение Античности привело к векам застоя. Все пришло в упадок – земледелие, наука, искусство, ремесла, торговля. «Средневековье… – как писал Энгельс, – стерло с лица земли древнюю цивилизацию… чтобы начать во всем с самого начала»[17].
Только в XI–XII веках Европа начинает оправляться от варварства первого тысячелетия. Центр тяжести жизни постепенно переходит в города. Начинается экономический и духовный подъем, Крестовые походы раздвигают кругозор мира, приводят к отмиранию старой замкнутости. Рыцарство, особенно французское, делается покровителем культуры, резкий подъем переживает философия, на новые ступени восходит искусство, появляется «Песнь о Роланде», первые рыцарские романы, стихи.