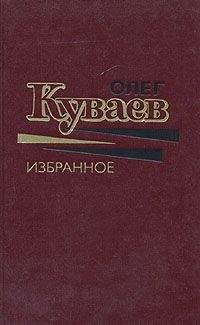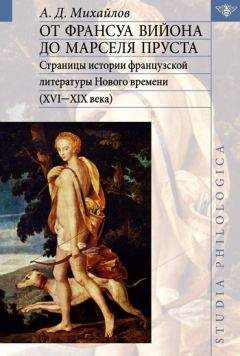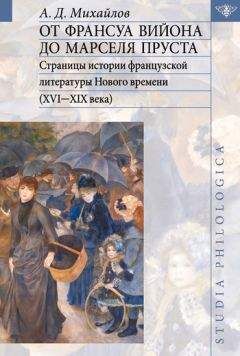Юрий Рюриков - Три влечения. Любовь: вчера, сегодня и завтра
В прошлом прагма была, пожалуй, самым частым супружеским чувством, и под ее знаком брак стоял десятки веков, особенно в патриархальной крестьянской семье, которой правили добрые нравы.
Нынешняя прагма растет из главной психологической тяги современных людей – тяги к глубокой душевной совместимости, к похожим интересам, взглядам, обычаям. Девиз прагмы – как можно более полная совместимость, и на нем стоит вся теперешняя служба знакомств и брака.
Следующий вид любви – лýдус: Овидий в «Науке любви» называл его amor ludens (áмор люденс) – любовь-игра. Человек здесь как бы играет в любовь, и его цель – выиграть, причем выиграть как можно больше, потратив как можно меньше сил.
Лудиане хотят радужных и беззаботных отношений, легких как полет бабочки. Они влекутся к одним только радостным ощущениям, и их отпугивают более серьезные чувства. Крайние из них стремятся завести двух, а то и трех возлюбленных сразу.
«Любовь к нескольким», книга-наставление XVII века, говорила об этом, что два возлюбленных лучше, чем один, а три надежнее, чем два. Они дают двойную гарантию успеха: во-первых, при любой осечке с одним его заменит другой, во-вторых, деля между ними симпатию, можно не бояться глубокого увлечения, излишней привязанности.
Лудианин – человек кратких ощущений, он живет мгновением, редко заглядывает в будущее и почти никогда не вводит возлюбленного в свои далекие планы.
У него нет ревности, нет владельческого отношения к возлюбленному; он не распахивает перед ним душу и не ждет от него такого распахивания. Часто он нетребователен или не очень требователен, а то и неразборчив. Внешность партнера ему важна меньше, чем собственная независимость.
У него особенное отношение к телесным радостям. Они для него не высшая цель и не часть эмоциональных отношений. Это часть его игры, одно из ее русел, и он не вкладывает в них душу, легко относится к ним. Ему дороже удовольствие от самой игры, чем от промежуточных выигрышей, его больше влечет легкость игры, чем ее результаты.
Поэтому он неярок и однообразен сексуально, редко старается углубить свое любовное искусство. И если партнер не испытывает с ним радости, он не стремится дать ему эту радость, а делает то, что легче ему самому – ищет себе другого.
У него довольно высокая самооценка, он никогда не испытывает чувства неполноценности, даже когда явно неполноценен. Наоборот, такие люди часто полны чувства сверхполноценности. Те из них, которые встретились психологам, были самоуверенны и никогда не жалели о своем пути. По их словам, у них было среднее детство, не счастливое, не несчастное, а своей нынешней жизнью они довольны, потому что, кроме случайных срывов, в ней все хорошо…
Конечно же, лудус – не любовь, а просто любовное поведение. Лудиане не могут любить, в их душах нет струн, на которых разыгрывается это чувство. В них царят струны более простых наслажденческих чувств, и они занимают там и свое законное место, и место более глубоких, более сложных чувств.
Чувства лудиан я-центричны, они не дают душе углубить себя главными человеческими переживаниями, которые построены на сопереживании – радостью от чужой радости, печалью от чужой печали.
Нынешние лудиане-игроки – это упрощенный сколок с аристократической французской любви XVIII века. Это была утонченная любовь-игра, полная хитроумия и риска, стремящаяся к изысканным наслаждениям души и тела. У нее были витиеватые каноны и правила, и они делали из нее изощренное искусство общения, превращали в состязание соперников, которые идут к одной цели, но хотят невозможного – и выиграть вместе, и обыграть друг друга.
Такая любовь-игра ярко запечатлелась в мемуарах и в беллетристике XVIII века и, пожалуй, ярче всего в «Опасных связях» Шодерло де Лакло и в «Парижских картинах» Ретифа де ля Бретона. Типичным лудианином был и известный итальянец Казанова, человек-игрок, записками которого зачитывалась в XIX веке образованная Европа. Теперешние игроки – это чаще всего бытовые донжуаны, которые, в духе нынешней массовой культуры, тяготеют к неизобретательной игре, построенной на лобовых ходах…
Рождение индивидуальной любви
Новые ступени в психологии любви запечатлевают римские поэты первого века до нашей эры – Катулл, Тибулл, Проперций, Овидий, Гораций, Вергилий. Любовь достигает у них огромных высот, утончается, приобретает новые свойства, которых не было раньше.
Конечно, речь идет о высших точках тогдашней любви, о любви, пропущенной через сердце художника и поэтому опоэтизированной, рафинированной. Любовь в жизни обычно ниже по своему уровню, чем в лирике. Говоря о своих чувствах стихами, поэт уже одним этим дает им другое звучание, облагораживает, утончает их, делает более богатыми – делает другими. И кроме того, любовь в искусстве – это вершина горы, а много ли места занимает вершина в общей массе горы?…
Многие, наверно, знают, что в Риме той эпохи любовь часто превращалась в сластолюбие, в изощренную игру. В «Анналах» Тацита и «Жизни двенадцати цезарей» Светония подробно рассказано о любовных оргиях, которые достигали вакханальных высот при дворе цезарей. Императоры предавались любви публично, на глазах у народа. Они становились любовниками или любовницами мужчин, брали себе в наложницы сестер – как Калигула, и даже мать – как Нерон.
Конечно, не меньше было в те времена и любви без озарений, простой, может быть, грубой, и любви обычной, незаметной, ничем особенным не выдающейся. Наверно, именно таким и было большинство любовных связей того времени, – подножье, на котором возвышалась любовь искусства. Но в искусстве той поры больше всего отпечатались высшие взлеты чувства, и особенно ярко видно это в поэзии.
Катулл, певец античного изобилия любви, воспевает ее неумеренную бескрайность:
Помни: только лишь день погаснет краткий,
Бесконечную ночь нам спать придется.
Дай же тысячу сто мне поцелуев,
Снова тысячу дай и снова сотню,
И до тысячи вновь и снова до ста.
Он готов любить титанически, и он говорит об этом увесистыми, полными тяжелой силы словами:
Ты зыбучий сочти песок ливийский…
В небе звезды сочти, что смотрят ночью…
Столько раз ненасытными губами
Поцелуй бесноватого Катулла.
Эта титаническая ненасытность – особое свойство античной любви, и о нем много рассказывают нам и мифы и стихи древних. Именно с такой ненасытностью любили в мифах и Зевс, и Посейдон, и Аполлон, и другие боги. Среди греческих легенд о Геракле есть и легенда о его тринадцатом подвиге, о котором у нас почти не знают. Это был настоящий любовный подвиг – по приказу царя Эврисфея Геракл в одну ночь оплодотворил сорок девять дочерей Феспия. Те же подвиги совершал и Рáвана, страшный царь рáкшасов из индийской мифологии: у него были сотни жен, и он каждый день посещал всех их. И здесь любовь титанична, и здесь она чрезмерна, полна буйного изобилия.
Эта тяга к бесконечности любви видна у многих поэтов Античности. Девизом для всех них могли бы служить слова Вергилия из «Энеиды»: «Дайте лилий полными горстями».
Ярко переживал это чувство и Овидий. В одной из своих элегий он говорит, что все женщины ему нравятся, и во всех он готов влюбиться. Прелести любви ослепляют его, и оттого, что он видит их, как бы открывая их впервые, его сотрясает стремление любить весь женский род, перелюбить всех женщин. Через два тысячелетия о такой любовной жадности шутливо напишет Байрон:
Один тиран когда-то говорил:
«Имей весь мир одну большую шею,
Я с маху б эту шею разрубил!»
Мое желанье проще и нежнее:
Поцеловать (наивная мечта)
Весь женский род в одни уста!
Эта тяга, гремящая в древних с силой открытия, окрашивает их любовь в особые цвета. Они поют любовь как величайшее откровение человека перед человеком, и это новая нота в подходе к ней. Когда они прославляли женское тело, когда слали инвективы скрывающим его одеждам, когда Овидий писал:
И малолетен и наг Купидон: невинен младенец,
Нет одеяний на нем – весь перед всеми открыт, —
они говорили не только о телесной открытости, а именно обо всей человеческой открытости, о той распахнутости до конца, которая открывает влюбленным все друг в друге. И, наверно, обнаженность античных статуй тоже говорила не только о телесной открытости. Правда, это еще только начало, только первый шаг на том пути, который в наше время приведет к почти абсолютной открытости любящих, к полному их душевному слиянию – такому, как у Толстого или как у Хемингуэя. Таких чувств еще нет у древних, тип их любви отличается здесь от современного.
Все в любви было для них естественным, не запретным, – и это тоже было одним из главных свойств тогдашней любви. И поэтому великий Овидий так прям и открыт, когда пишет об интимных подробностях любви[15]. Он язычески, плотски любит свою Коринну, и его любовные элегии, которые рассказывают о светлых радостях любви, – один из ярчайших шедевров мировой лирики.