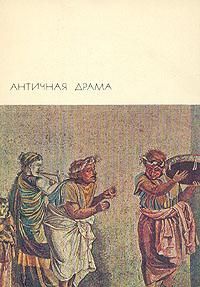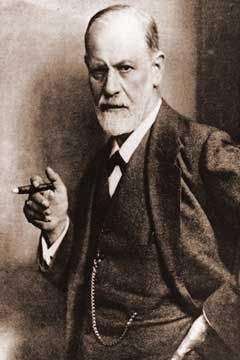Борис Костелянец - Драма и действие. Лекции по теории драмы
Как это так — прощать своих убийц? Да еще объявлять их «хорошими людьми»? Что это за всепрощение? В характере ли оно героини? Не возмущает ли оно нравственное чувство зрителя?
Что касается соответствия этого поступка характеру героини, то вспомним еще раз, что мысль «всем простить и умереть» появилась у Ларисы еще у решетки, над пропастью. Она, правда, забыла о желании всем простить, как только узре. л Карандышева. Но потом это желание вполне закономерно пробуждается в ней перед лицом неотвратимой смерти.
А теперь о нравственном чувстве зрителя. Он ни в прошлые времена не требовал, ни теперь не может требовать от Ларисы, чтобы она перед самой смертью обличала, проклинала и казнила. Это значило бы, что своей вины в происшедшем, и прежде всего перед Карандышевым, она так и не почувствовала.
Пусть умирающая Лариса, справедливо пишет Л. Лотман в книге, на которую мы уже ссылались, всех прощает, ее слова «лишь усиливают эмоции негодования и протеста» в зрителе, вызывая желание изменить общество, где люди, подобные Ларисе, обречены на гибель.
В. Лакшин пишет не о реакции зрителя, а о логике поведения героини «Бесприданницы»[477]. Критик считает, что от последних слов Ларисы веет могильным холодом равнодушия, полнейшего разочарования в жизни и добре. Апатия, переходящая в опустошенность, считает критик, началась у Ларисы после того, как было произнесено Карандышевым и ею подхвачено слово «вещь».
С этим согласиться невозможно.
Разве, признав себя вещью, Лариса впала в апатию? Мы видели, как узнавания и потрясения в сцене с Карандышевым вывели ее из состояния апатии, овладевшего ею у решетки. В сцене с Юлием Капитонычем она реагирует на все с обостренной чувствительностью и произносит исступленные, трогательные слова о том, как искала любви и тепла. В новом состоянии она осуждает жестокий мир и отрицает свою вину в том, что случилось. Внутренне глубоко обоснован ее переход к признанию своей вины. Такие переходы, столь резкие и категорические, не делаются в состоянии апатии и равнодушия. Они возможны только в моменты напряжения духовных сил, в минуты отчаянной решимости, в моменты постижения сути вещей.
«Трудно судить Ларису за эту опустошенность души», до которой ее довели, пишет Лакшин. Но тут не за «опустошенность» надо судить Ларису. Здесь, напротив, надо поражаться силе духа и способности к нравственному просветлению.
Заявляя «это я сама», «никто не виноват», Лариса прежде всего стремится снять вину за ее смерть с Карандышева. Это не просто красивые слова, сказанные из великодушия. Тут дело не исчерпывается и тем, что Лариса следует христианскому обычаю прощать своих врагов перед смертью. Нет, Лариса теперь в состоянии озарения. Успевая постичь выстрел Карандышева в цепи всех событий, она признает и свою вину в трагическом исходе коллизии. Нам было бы грешно не последовать тут за Ларисой, упрощая ситуацию, сложность которой она постигла.
Слова «это я сама» можно продолжить по-разному: «это я сама выстрелила», «это я сама виновата». Произнося их, Лариса проявляет способность отвечать за свои поступки, которую она вот-вот могла бы и вовсе утратить, обрушивая свое негодование на одного Карандышева, в сердцах делая его одного виноватым и за Паратова, и за Кнурова, за Вожеватова, за свое начавшееся падение. Снимая вину с Карандышева, Лариса тем самым признает, что, при всех непростительных поступках, он тоже жертва: жертва ее вновь вспыхнувшей любви к Паратову, паратовского изощренного измывательства, обдуманной кнуровской хищнической хватки…
Испытав презрение и ненависть к своим мучителям, испытав ужас перед грозившими ей соблазнами и своей готовностью пойти им навстречу, Лариса — разумеется, подсознательно — побуждает Карандышева к выстрелу и тем самым торопит единственно возможную развязку, которая становится для нее одновременно и смертью и очищением.
Подлинные виновники страданий и гибели Ларисы — паратовы и кнуровы — вины своей не только никогда не признают, но даже и не почувствуют. Лариса же, ощутив, насколько и она виновна в происшедшем, и приняв смерть как благодеяние, тем самым вырывается из пут мира паратовых и кнуровых, нравственно над ним возвышается, резко и навсегда отделяет себя от этого мира.
Краткий список литературы
Оснос Ю. В мире драмы. М., 1971.
Ревякин А. И. Искусство драматургии Островского. Изд. 2-е. М., 1974.
Холодов Е. Мастерство Островского. М., 1967.
Холодов Е. Драматург на все времена. М., 1975.
Штейн Л. Мастер русской драмы. М., 1973.
Приложение
24/Х был на докл[аде] Мейерхольда: Пушкин и драматургия[478]. В этом же зале лектория я в прошлом году присутствовал на его докладе «О театре». В прошлом году он передвигался по пустой сцене, свободными руками рисовал перед зрителем пластические характеристики тех лиц и событий, о которых шла речь. На этот раз он вышел с большим портфелем в руках, весь доклад простоял у кафедры, обильно цитировал Пушкина и других. Произнося фразу, он вначале несколько откидывается назад, как бы приседая, чтобы другую ее часть выбросить в зал резким выпрямлением всей фигуры. Неожиданно для меня он вынимает очки, надевает их и сразу, в одно мгновенье, заметно стареет. До конца он так и остался в очках.
Основной мотив его доклада: Пушкин — настоящий знаток театра, сторонник настоящей театральности, условности. Пушкин поставил такие вопросы, которые актуальны для наших дней, для наших дней гораздо больше, чем для прошлого.
Пушкин был не только драматургом, он был настоящим организатором спектакля, режиссером, в нашем понимании. Когда он читал свои драматические] произвел[ения], он в своем чтении давал исчерпывающую характеристику образу, вполне достаточную для сценической интерпретации.
Оглядывая свой творческий путь, свои работы примерно с 1910 г. (в связи с анкетой «Литературного] современника]» о Пушкине), он, Мейерхольд, приходит к выводу, что его работа — осуществление пушкинских требований, старательная учеба у П[ушкина].
Он зачитывает письмо П[ушкина] о Чацком и комментирует его следующим] образом. Должно быть, Грибоедов не сумел в своем чтении подчеркнуть то, чем должен руководствоваться организатор спектакля, приступая к сценической интерпретации его образов и всей комедии. Пушкин в этом письме настоящий организатор спектакля, и он, М[ейерхольд], руководствовался П[ушкиным] при постановке этой пьесы.
П[ушкин], указывая на «три струны», которыми пользуется драматургия, принижая роль смеха, требовал высокую комедию, и он, М[ейерхольд], в прошлом году в этом зале говорил об опасности того смеха, который овладел нашей сценой, вызывая в зрителе одно лишь зубоскальство.
П[ушкин] в своей драматургии намного опередил современную театральную технику. Он, как другие великие драматурги, ставил театру задачи, двигал его вперед. — Об этом М[ейерхольд] говорил в продолжении всего доклада. Потому никому не удавалось справиться с постановкой его драм. Не удовлетворяет та постановка, которую мы видим на сцене театра драмы[479]. Театр добивался спектакля этакого монументального, герои там все этакие сочные, тяжеловесные. Монументальность там понята, как великость, как что-то большое. «Недавно я читал одну статью в какой-то газете и из контекста понял, что автор понимает монументальное как большое… длинное» — последнее слово он произносит, растягивая его и повышая голос таким тоном, что весь зал начинает смеяться. Он вынимает из портфеля разброшюрованный текст «Бориса Годунова», выбирает один листик. Вот на этих трех страничках поместилась целая сцена. Мы читаем: Девичье поле, Новодевичий монастырь, Народ. — Он показывает эти странички, затем зачитывает весь текст сцены, пропуская имена действующих [лиц]. Читает все подряд в одной тональности, создавая какое-то музыкальное однообразие. — Алекс[андринский] театр дает в этой сцене 50 человек, но если даже дать в ней 100 человек, 150 человек, все равно это будет не Пушкин. Совершенно непонятно, как в этой сцене, где участвует 7–9 человек, дать Девичье поле и народ. У Пушкина сказано лаконично, но ясно: Девичье поле, народ. — Как же должна звучать эта сцена, от чего исходил П[ушкин], создавая ее? — Пришлось обратиться к Карамзину, к тому отрывку, который как-то соответствует этой сцене. Оказывается, народу было несметное количество и издавал он «неслыханные вопли». Вывод: такого народа, который издает неслыханные вопли, который «падает за рядом ряд», на сцене дать нельзя. Невозможно дать среди такой толпы тех действующих] лиц, которых выделил П[ушкин] так, чтобы они отвечали п[ушкинскому] замыслу. Зритель должен видеть мимическую игру того актера, который силится заплакать и не может, который ищет луку, чтобы потереть глаза. Этих лиц надо дать, как говорят в кино, крупным планом, они должны быть одни на сцене. Нужно изобрести какой-то музыкальный] инструмент], который давал бы этот гул толпы, ее движения, чувство того, что она падает за рядом ряд.