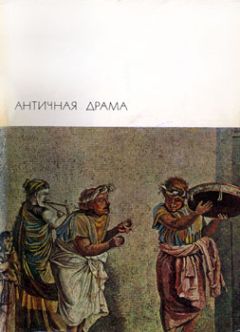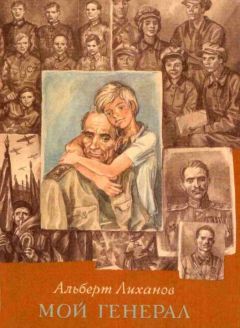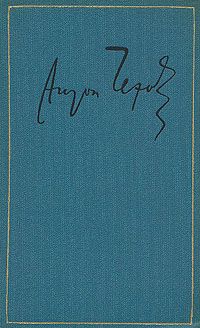Эсхил - Античная драма
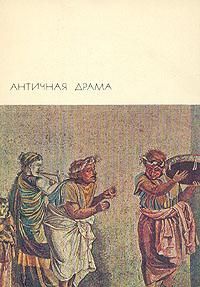
Обзор книги Эсхил - Античная драма
АНТИЧНАЯ ДРАМА
Античная драма
От Эсхила, которым открывается этот том, до Сенеки, который его завершает, прошло добрых пять веков — время огромное. И в сознании любого, кто мало-мальски знаком с крупнейшими писателями разных эпох и народов, два этих имени обладают, конечно, далеко не одинаковым весом. Когда говорят: «Эсхил», — сразу возникает у одних смутный, у других более или менее четкий образ «отца трагедии», образ почтенно-хрестоматийный, даже величественный, представляются мрамор античного бюста, свиток рукописи, актерская маска, залитый южным, средиземноморским солнцем амфитеатр. И сразу же память подсказывает еще два имени: Софокл, Еврипид. Но Сенека? Если тут и возникнут какие-то ассоциации, то, во всяком случае, не театральные: «Ах да, это тот, который вскрыл себе вены по приказу Нерона…». Справедлива ли такая несоизмеримость посмертной писательской славы Эсхила и Сенеки? Да, справедлива, вне всяких сомнений. После проверки веками — а тем более тысячелетиями — произвола в отборе самых значительных культурных ценностей в общем-то не бывает.
Почему же, несмотря на то, что Эсхил жил в V веке до н. э. в Греции, а Сенека в I веке н. э. в Риме, и несмотря на то, что один оставил в памяти потомства очень глубокий след, а другой как драматург — след слабый, поверхностный, оба оказались под одним переплетом? По праву ли они встретились? Да, по праву. Книга наша называется «Античная драма», а античная драма, если смотреть на нее нашими, сегодняшними глазами, с расстояния в две тысячи лет, — это все-таки одно целое, спаянное не только общими историческими предпосылками — рабовладельческим строем, языческой мифологией, — но и чисто литературной преемственностью, которая состояла в заимствовании и развитии технических приемов, в подражании предшественникам или их пародировании, в полемике с ними и порой даже, говоря нынешним языком, в «личных контактах». Известно, например, что Эсхил и Софокл выступали со своими трагедиями на одних и тех же состязаниях и оспаривали друг у друга первый приз. При всех различиях эпох и талантов, расцвета и упадка, при диаметральной, казалось бы, противоположности трагедии и комедии, при разноязычии греков и римлян, при том, что от одних авторов до нас дошла лишь малая часть написанного, а от других вообще ничего не дошло, — при всем при этом античная драматургия представляется нам сегодня тугим клубком, где скрыты концы нитей, тянущихся ко всем позднейшим победам европейского драматургического гения — и к Шекспиру, и к Лопе де Вега, и к Мольеру, и к Островскому.
Как завязался этот клубок, с чего все началось? Достаточно один раз прочесть любую трагедию Эсхила, чтобы почувствовать в ней какую-то старую культуру зрелищ и лицедейства. Прежде всего бросается в глаза непременное присутствие хора — особенность, на современный взгляд, странная. А потом, вчитываясь, замечаешь, что без хора, пожалуй, и действие не двигалось бы: в одном случае не получилось бы диалога, в другом — не было бы необходимой для понимания происходящего экспозиции, в третьем — и это самое поразительное — вообще не было бы главного действующего лица, потому что хор как раз и есть тот герой, вокруг которого вертится драма. И еще замечаешь, читая Эсхила, что партии хора подчинены каким-то своим композиционным правилам и правила эти разработаны весьма изощренно. Хор поет и в начале, когда появляется перед зрителями, и в середине пьесы, когда актеры уходят, и в конце ее, покидая свою площадку — орхестру. Все эти выступления хора имеют даже особые названия — парод, стасим, эксод. — Бросается в глаза и еще одна закономерность: песни хора обычно состоят из парных частей, и вторая («антистрофа») повторяет ритм первой («строфы») на новом тексте. Такая тонкая механика не возникает на голом месте. За ней легко угадывается традиция, и даже если бы мы не располагали античными свидетельствами о происхождении трагедии и о Фринихе, предшественнике Эсхила, первостепенная роль хора и сложная система хоровых партий в эсхиловском театре натолкнули бы нас на мысль, что «первым» Эсхила можно назвать только условно, и указали бы нам на хор как на отправную точку для поисков, которые привели бы к истокам трагической драмы. А сравнивая огромное значение хора в эсхиловских трагедиях с его ролью у поэтов следующего поколения — Софокла и особенно Еврипида, — о которых кто-то, пусть с долей преувеличения, сказал, что их можно без всякого ущерба для понимания смысла читать, пропуская хоровые партии, — еще отчетливее видишь, что хор в трагедии — это ее самое древнее, самое архаичное, самое близкое к началам драмы ядро.
Театр, оживающий на страницах нашего сборника, даже и самый ранний, эсхиловский, — это театр людей уже цивилизованных, обладающих и письменностью, и высокой литературной и музыкальной культурой. Именно культура и сделала возможным тот качественный скачок, каким был переход от обрядовых песен в честь бога Диониса к профессионально подготовленному представлению. Слово «трагедия» значит в переводе «козлиная песнь». Сам по себе перевод еще ничего не объясняет, и поныне существуют разные его толкования, в основе которых, однако, всегда лежит идущая от греков убежденность в том, что родил трагедию культ Диониса, считавшегося покровителем виноградарства и символом животворных сил природы. В честь Диониса издавна устраивались пьяные шествия. Участники этих процессий изображали пастухов — свиту Диониса, они надевали козьи шкуры, вымазывали себе лица виноградным суслом, пели, плясали, славили своего хмельного бога, которого иногда тоже представлял один из ряженых, и завершали обряд жертвоприношением козла. Козьи шкуры на бедрах и спинах «пастухов», козел как традиционный дар Дионису, не говоря уж об известных мифических спутниках этого бога — козлоногих сатирах, — о да, если все началось с дионисийского культа, то, право же, было достаточно причин, чтобы древнейший жанр драматургии получил свое не очень-то на поверку красивое имя.
Как выделились из хора ряженых запевалы-солисты, как вместо Диониса главными фигурами действа становились другие боги, а вместо богов и наряду с ними — герои мифов, как усложнялось, все больше удаляясь от культовой своей первоосновы, драматическое представление, это не так уж трудно вообразить, а это и есть путь от обрядовых песен к литературной трагедии, зачинателем которой считается Феспид (VI в. до н. э.). Однако, и став литературой, трагедия продолжает развиваться в том же направлении: она становится все более светской, хоровое пенье занимает в ней сравнительно с диалогом все меньше места, среди ее персонажей появляются не только мифические герои, но и реальные исторические лица, такие, например, как персидские цари Ксеркс и Дарий. Она почти обрывает пуповину, связывающую ее с дионисийскими песнями, с религиозным культом.
Но только почти! Если пристальней к ней приглядеться, то полностью она этой пуповины на греческой почве так и не оборвет. Вплоть до Еврипида обязательной принадлежностью театрального реквизита останется жертвенник, а непременной темой трагедийного хора — величание богов; вплоть до Еврипида, и даже чаще всего именно у него, герои и боги будут прибывать к месту действия на колесницах, происходящих от той полуповозки-полуладьи, на которой в особые праздники приезжал в Афины «сам» Дионис, так же примерно, как приезжает сегодня у нас в какой-нибудь детский сад «сам» дед-мороз. И всегда, всегда представления в античных Афинах будут даваться только по праздникам в честь Диониса, два раза в году, зимой и весной, даже если темы драм не будут иметь к этому богу уже ни малейшего отношения.
То, во что нам сегодня нужно пристально вглядываться, было у современников трех великих греческих трагиков всегда на виду. И косность, с какой театральные зрелища допускались лишь на Дионисии и Леней, родила в Афинах пословицу: «При чем тут Дионис?» Насмешливый этот вопрос удивительно меток и заразителен. Он ясно указывает на то, что в эпоху расцвета трагедии сохраненные ею следы богослужебного ритуала воспринимались как пережиток, а нас, отделенных от мира, где верили в богов и героев, толщей веков, этот вопрос прямо-таки призывает расширить его смысл и увидеть за туманной подчас мифологической оболочкой трагедии живую, земную жизнь.
С самой начальной поры греческой драмы земные дела входили в нее и без посредничества мифологии. Афинский театр V века до н. э., и трагический — Эсхила, Софокла, Еврипида, и комический — Аристофана, всегда занимался самыми животрепещущими вопросами политики и морали, это был очень гражданственный, очень тенденциозный театр, сознававший свою воспитательную, наставническую роль и гордившийся ею. И есть, нам кажется, какая-то поучительная закономерность в том факте, что первой доэсхиловской драмой, о которой до нас дошли более или менее связные и подробные сведения, оказалась трагедия Фриниха «Взятие Милета», написанная на злободневную тему, под свежим впечатлением только что отшумевших событий.