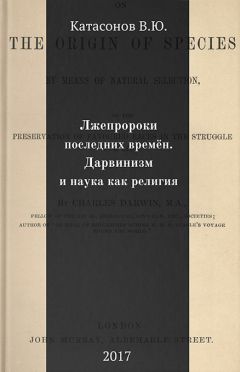Михаил Гиршман - Литературное произведение: Теория художественной целостности
Обратимся теперь к конкретному примеру прояснения такого рода центрирующей доминанты в «Даме с собачкой» – классическом чеховском рассказе, эпическом воссоздании таинственного и неопределимого, охватывающего всех и вся общего течения жизни.
Тезис о такой родо-жанровой доминанте этого произведения отнюдь не является бесспорным: эпичность чеховского рассказа неоднократно подвергалась серьёзным сомнениям: вспомним сопоставление Л. Толстого и Чехова у В. Я. Лакшина: «Чехов подхватывает традицию Толстого-психолога, мыслителя и сердцеведа, но эпический тон остаётся ему совершенно чужд. У Чехова нет такой целостной, завершенной (хотя и противоречивой) концепции жизни, как у Толстого. Чехова интересует не столько человеческая жизнь в целом с её радостями и скорбями, жизнь как выражение вечных законов бытия, сколько характерные черты и настроения современной ему действительности. Вместо эпического взгляда на мир, у Чехова – лирика и ирония, трезвый и тонкий скептицизм, разлитый во всем и не коснувшийся разве что мечты и надежды» 26 .
В очень интересной трактовке художественности прозы А. П. Чехова, обоснованной в книге В. И. Тюпы, эстетическая доминанта «Дамы с собачкой» определяется как драматизм самореализации, и в рассказе акцентируется противопоставление «высших целей бытия» и «личной тайны» 27 . Проясняющаяся суть этого противопоставления заключается, по мнению исследователя, в том, что «зерно жизни» открывается читателю именно в личной тайне человека, а не в сфере «высших целей бытия». Эти цели не устраивают Чехова, поскольку они мыслятся сверхличными, внеположными личному существованию. Отвлеченно понятыми «внешними целями», будто бы устремленными к «непрерывному совершенству», но осуществляющими себя «„в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас“, легко можно оправдать всё, что угодно, в том числе „куцую, бескрылую жизнь“ каждого отдельного человека» 28 .
На мой взгляд, для понимания чеховского эпического воссоздания именно «человеческой жизни в целом», кроме несомненно присутствующих
в рассказе Чехова моментов противопоставления «личной тайны» и «высших целей бытия», более важным является охватывающее все эти моменты сопоставление, которое проясняет глубинный пласт этих противоположностей. Недаром рядом с «высшими целями бытия» оказывается «человеческое достоинство»; бытие как «непрерывное движение жизни на земле» внутренне обращено здесь к памяти о человеческом достоянии и достоинстве, и в этой связи цели бытия не являются совсем посторонними для человеческой личности. С другой стороны, «личная тайна» проясняется как важнейшая характеристика именно человеческой природы в противовес «животному инстинкту»; характерна в этом смысле одна из черновых записей в записной книжке Чехова, где можно почувствовать первоначальный исток формирующейся целостности чеховского рассказа вообще: «У животных постоянное стремление раскрыть тайну (найти гнездо), отсюда у людей уважение к чужой тайне, как борьба с животным инстинктом» 29 .
В этом сопоставлении, может быть, наиболее отчетливо прорисовывается адекватный для чеховского эпического рассказа масштаб общей жизни, охватывающей всех и каждого. Значимо само движение к этой всеобщности – в частности, переход от противостояния «пошлости» других, например, собеседника, по существу повторяющего вслед за Гуровым: «А давеча вы были правы: осетрина-то с душком», – к осмыслению в заключительной части рассказа противоречия тайной и явной жизни как всеобъемлющего, актуального для всякого человека и в то же время единственного для каждого, так что надо индивидуализировать каждый случай: «У него были две жизни: одна явная, которую видели и знали все, кому это нужно было, полная условной правды и условного обмана, похожая совершенно на жизнь его знакомых и друзей, и другая – протекавшая тайно. И по какому-то странному стечению обстоятельств, быть может, случайному, всё, что было для него важно, интересно, необходимо, в чем он был искренен и не обманывал себя, что составляло зерно его жизни, происходило тайно от других, всё же, что было его ложью, его оболочкой, в которой он прятался, чтобы скрыть правду, как, например, его служба в банке, споры в клубе, его „низшая раса“, хождение с женой на юбилеи, – всё это было явно. И по себе он судил о других, не верил тому, что видел, и всегда предполагал, что у каждого человека под покровом тайны, как под покровом ночи, проходит его настоящая, самая интересная жизнь. Каждое личное существование держится на тайне, и, быть может, отчасти поэтому культурный человек так нервно хлопочет о том, чтобы уважалась его личная тайна».
Такова открывающаяся в рассказе внутренняя противоречивость каждого реального существования и человеческой жизни в целом: её общий ход соединяет в себе и надежду, и безнадежность, и все ужасы, и красоту так же, как почти всегда упоминаемый в анализах поэтики «Дамы с собачкой» серый цвет и связывает, и различает и «серый, длинный с гвоздями» забор, и «серое солдатское сукно» на полу гостиничного номера, и «серое, точно больничное одеяло», и «серую от пятен» чернильницу и … «любимое» Гуровым «серое платье», и "красивые серые глаза" Анны Сергеевны. И это не контраст, не совмещение противоположностей в точках наивысшего драматического напряжения, а прежде всего многоликость и разнонаправленность того «непрерывного движения жизни на земле», где вместе сосуществуют и «непрерывное совершенство», и «полное равнодушие к жизни и смерти каждого из нас», и «тайная», и «явная» жизнь.
Эта общая жизнь не только противостоит «личной тайне», но и включает её в себя, объединяя и обращая друг к другу таинственность бытия и тайну человеческого существования, которое и поглощается бытийным потоком и противостоит ему в усилии жизни, понимания, общения, – усилии человечности в противовес «животному инстинкту». Доминирующую роль в художественном мире «Дамы с собачкой» играет происходящее в этом мире событие рождающейся любви и её драматической неосуществимости. Эпическая событийность охватывает здесь и лиризм высказывающегося чувства и трагизм «невыносимых пут» – необходимости и невозможности воплощения любви в действительной жизни, осуществления в ней человечности.
Л. Н. Толстой замечал в дневнике в связи с чтением «Дамы с собачкой»: «Люди, не выработавшие в себе ясного миросозерцания, разделяющего добро и зло» 30 . И это по-своему очень точная читательская реакция на чеховский мир, его героев и сюжет, в основе которого как раз необходимость выработки такой границы, необходимость прояснения, обретения ясности сознания как общечеловеческая и в то же время уникально-личная, индивидуальная проблема. И чеховский рассказ – это эпос индивидуального и только индивидуального осуществления человечности в таинственно-неопределимом и непредсказуемо-развивающемся мире. Именно в таком эпическом событии и могут «встретиться» друг с другом высшие цели бытия и личная тайна единственной личности, обращенной к другой, такой же единственной, так что «высшие цели бытия» оказываются в этом мире своеобразно «замкнутыми» на индивидуальность.
Безусловно, есть серьёзные основания для утверждения В. И. Тюпы о том, что автора «Дамы с собачкой» «не устраивают» сверхличные цели и ценности, "поскольку они мыслятся «внеположными личному существова-нию» 31 . Действительно, сверхличное как внеличное или безличное в мире чеховского рассказа по крайней мере поставлено под вопрос в силу своей смысловой и ценностной неопределённости. Но тем более важной становится возникающая связь сверхличного и межличного: прорывы сквозь завесу господствующей разобщенности моментов реального общения и его предельного выражения – любви. В. И. Тюпа очень уместно вспоминает в связи с чеховским миросозерцанием слова одного из героев романа Б. Пастернака «Доктор Живаго»: «общение между смертными бессмертно» 32 . Именно в этом смысле общение предстаёт в чеховском эпическом мире как сверхличная (или лично-сверхличная) ценность так же, как и лично-сверх-личное усилие индивидуально осуществляющейся, рождающейся человечности.
Одной из форм реализующегося общения становится в чеховской прозе повествование в тоне и духе героя 33 , оно имеет ближайшее отношение к эпической объективности, которая не только не исключает субъекта, но, наоборот, непременно включает в себя формирующееся индивидуальное сознание и самосознание, обращенное к таинственному и неопределенному в своих многоплановых и разнородных потенциях движению жизни. Убедительные аргументы для утверждения эпической доминанты в чеховском художественном освоении этого движения даёт довольно давно написанная монография У. Джерарди, чьи проницательные наблюдения и обобщения и сегодня сохраняют несомненную ценность. По словам английского исследователя, жизнь представляется Чехову «ни плохой, ни хорошей, но неповторимой, странной, быстротечной, прекрасной и в то же время страшной» 34 . Именно такое не поддающееся однозначному противопоставлению «дву-единство печали и радости» предстаёт как «квинтэссенция бытия» 35 , а «в фокусе художественного восприятия» Чехов помещает «вечный поток жизни» и «эту самую жизнь – расплывчатую, бесформенную, хаотичную, как море» 36 .