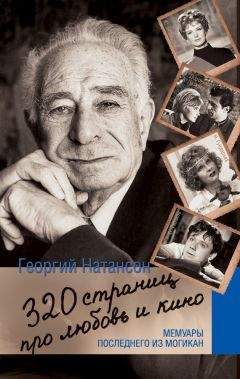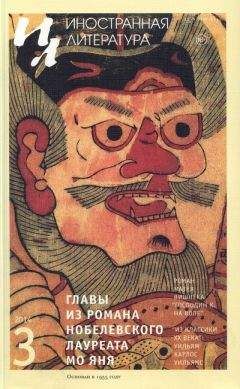С. ФРЕЙЛИХ - ТЕОРИЯ КИНО: ОТ ЭЙЗЕНШТЕЙНА ДО ТАРКОВСКОГО
Эйзенштейн ведет повествование в стиле документальной объективности (художественное заострение, «игра» - здесь снова его можно сравнить с Брехтом - достигается с помощью монтажа аттракционов, благодаря которому происходит отчуждение материала с целью выявления его изначального смысла).
У Пудовкина эпос проявляется через драматическое действие - действие, разумеется, кинематографическое, - в котором актер есть одновременно типаж, а аристотелевские правила соединены с натурой.
Довженко - лирик. В его картинах на первый план выступает рассказчик, и этим он отличается от Пудовкина и сближается с Эйзенштейном, хотя у последнего, в отличие от Довженко (у которого действие в своих сцеплениях увязывается по логике переживания поэта), действие как бы разглядывается глазами очевидца и потому объективизируется в своей хроникальной последовательности.
И все-таки это различие между художниками мы бы ощущали больше, если бы суть его проявилась, скажем, на сцене или в литературном изложении (в чем легко убедиться, сопоставив сценарии фильмов, поставленных этими режиссерами). На экране это различие в значительной степени скрыто и не так бросается в глаза: как бы своеобразно ни строил действие каждый из них, все они переводят действие в изображение, то есть все рассказывают с помощью изображения.
Экран как бы снимает антагонизм между действием и рассказом. Почему это происходит? Киноизображение - не оформление готового действия. Само изображение на экране есть действие. И изображение человека, и изображение дерева - действие. Чтобы поставить в кино пьесу, нужно предварительно изменить ее форму (стало быть, и содержание): экран по-своему завяжет сюжет; изберет для этого же действия другие опорные моменты; наконец, по-своему завершит его.
На сцене невозможно завершить сюжет так, как, скажем, завершает его в фильме «Ночи Кабирии» Федерико Феллини: улыбка, нечаянно возникнув на лице героини, изменяет действие. В театре это невозможно не только потому, что улыбку на лице актрисы увидели бы только зрители первых рядов. И для них, зрителей первых рядов, необходима была бы еще какая-то сцена, какое-то словесное или физическое действие, чтобы ощутить перелом, происшедший в душе героини. Все это должна была бы сыграть актриса, реально находящаяся на сцене перед зрителем.
На экране мы видим изображение улыбки. При этом мы уверены, что видим не улыбку актрисы, играющей Кабирию, а улыбку самой Кабирии. Улыбка на экране становится действием значительно более сильным, непосредственным, чем на сцене. Здесь кинематографическое действие сильнее и литературы, потому что фраза «на лице Кабирии появилась улыбка» была бы в таком случае только информацией, но не источником переживания: нам нужно здесь самим увидеть, а не услышать лишь рассказ того, кто это видел. Здесь недостаточна и сила живописи, способной остановить мгновение. Здесь требовалось именно кинематографическое, движущееся изображение, чтобы передать не состояние, а момент перехода одного состояния в другое. Без этого мы не сумели бы в полной мере ощутить перелом, который внезапно произошел с Кабирией. Жестоко обманутая (вспомним - обманутая вторично, да еще тем, кому поверила и кого полюбила), она молит, чтобы ее убили, она не хочет больше жить, она не может больше жить. Она бредет сквозь лес, среди этих оголенных стволов, снятых так, что мы не видим крон - они как бы срезаны, неясность следствий и причин изображения делает его сюрреалистическим. Впрочем, Феллини это не акцентирует, как, например, словацкий режиссер Штефан Угер в картине «Орган»: он тоже изображает так лес, но затягивает изображение, ибо сама картина поставлена в сюрреалистическом ключе. У Феллини это только впечатление, он создает его и тут же разрушает: откуда-то появляется толпа - молодые пары, веселые, кто-то на велосипедах, кто-то с гитарой, - вероятно, это режиссеру нужно было, чтобы среди удаляющегося карнавала маленькая фигурка Кабирии показалась нам еще более обреченной. Сейчас закончится картина, и, кажется, невозможно уже изменить ни судьбы героини, ни вашего подавленного состояния. Но именно в этот критический момент режиссер показывает нам ее лицо: Кабирия прислушалась - и вдруг на ее измученном лице возникает - улыбка. Этот момент потрясает нас, мы переживаем то, что бывает с нами, когда трагический герой, после катастрофы, вызывает в нас уже не только страх и сострадание, но и душевный подъем, просветление.
Как видим, кинематографическое изображение сближает повествование и драматическое действие.
Практически кинематограф изменил границы между традиционными родами - эпосом и драмой.
Если у Эйзенштейна «Потемкин» выглядит как хроника, а действует как драма, то Пудовкин подошел к решению задачи с другой стороны: его картина «Мать» является драмой, а действует как хроника.
(Эти великие открытия наших мастеров не до конца осознаны, о чем говорит, например, неискоренимая привычка считать художественным фильмом лишь фильм драматический, то есть игровой, но не документальный, хотя документальный фильм, в отличие от репортажа, должен быть художественным произведением, поскольку неизбежно стремится к образному воплощению действительности).
Разумеется, и до возникновения кино не было абсолютных границ между жанрами и между родами. И все-таки не случайно, что Достоевский не считал возможным воспроизведение одного и того же сюжета в разных родах литературы.
«Есть какая-то тайна, - писал он в письме к Е.Д. Оболенской, - по которой эпическая форма никогда не найдет себе соответствия в драматической. Я даже верю, что для разных форм искусства существуют и соответственные им ряды поэтических мыслей, так что одна мысль не может никогда быть выражена в другой, не соответствующей ей форме»[1].
Однако Достоевский не отрицал при этом возможности инсценировки. Он развивал свою мысль так: «Другое дело, если Вы как можно более переделаете и измените роман, сохранив от него лишь какой-нибудь эпизод, для переработки в драму, или, взяв первоначальную мысль, совершенно измените сюжет».
Ранний кинематограф свел этот принцип к простому приему: от эпического произведения литературы он брал лишь любовную интригу, поэтому любое произведение литературы становилось на экране мелодрамой. «Гамлет», по мысли Н. Зархи, в ту пору мог стать на экране только мелодрамой.
Однако не опроверг ли Зархи самого себя на практике, когда на основе эпического романа Горького «Мать» создал не мелодраму, а истинную трагедию? Здесь Зархи как бы удалось разгадать тайну, о которой говорил Достоевский: эпической форме он нашел соответствие драматическое - недаром же все отмечали адекватность фильма Зархи-Пудовкина и романа Горького, несмотря на столь очевидную переработку сюжета.
Сюжет эпический стал сюжетом драматическим. В чем все-таки суть этого превращения?
[1] Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. худож. произв.: В 10 т. Т. 3. М.; Л.: ГИЗ, 1926.- С. 20.
В эпопее господствует событие, в драме - человек. Со времен Белинского мы привыкли к этой формуле, хотя, так же как и он сам, не абсолютизируем ее. Было бы неверно формулу эту трактовать так, что эпика интересует только событие, трагика - только человек.
Нет, и в том и в другом случае господствует, конечно, человек, личность.
Только в драме этой личностью является герой.
В эпопее - автор.
Героиню романа «Мать» Зархи наделил в сценарии трагической виной: желая спасти сына, она невольно предает его. Перелом, который происходит в душе героини в результате осознания своей вины, придает действию огромное напряжение вплоть до самого финала: смерть ее мы воспринимаем теперь как искупление вины. Содержание романа, таким образом, доходило до зрителя не через переживания автора, а через переживания героини. Это было открытием, однако дальнейшего продвижения на этом пути в пределах немого кино все-таки быть не могло. Об этом говорит следующий сценарий Зархи - «Конец Санкт-Петербурга», в котором он повторил мотив трагической вины, снова заставив своего героя пройти через невольное предательство и искупление. Следующий шаг неизбежно вел к мелодраматизации действия, - отсюда и пессимистический вывод Зархи насчет возможности постановки в немом кино «Гамлета».
Выход искал и Эйзенштейн, когда он во время пребывания в США столкнулся с задачей экранизировать эпическое произведение - роман Драйзера «Американская трагедия». Поставить фильм Эйзенштейну не удалось, но мысли его по поводу этого, изложенные затем в статье «Одолжайтесь!», имеют до сих пор принципиальное значение. Постановку «Американской трагедии» заказала Эйзенштейну фирма «Парамаунт», и она же помешала ему ее осуществить. Разошлись в определении жанра. Почему убил Клайд? Потому что он был злодей - настаивал «Парамаунт». Для такой трактовки нужна была мелодрама: честная, бедная девушка и злодей, погубивший ее. Дело сводилось к полицейскому «простому случаю» - здесь хватало привычных средств немого кино, где мотивы поступков раскрывались довольно внешними проявлениями.