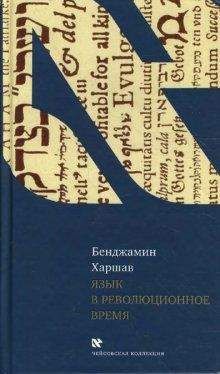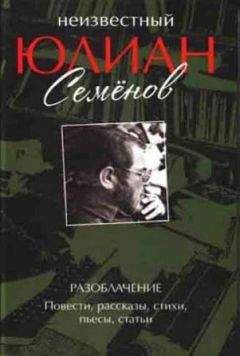Дмитрий Быков - Статьи из газеты «Известия»
На маскараде по случаю помолвки кузин Доримена выходит в серьгах. «Они хоть и не из лучших, но я их люблю не для того, что они стоят, а для того, что милым человеком подарены». И Багенодьер, и тупой сынок его подпрыгивают от счастья. Между ними происходит ссора, сын изгоняется, кузнец признается в любви, Доримена зовет мужа. «Но вы ж ко мне писали!» — визжит кузнец. «Письмо довольно меня уверяет, что не моею женою писано», — холодно констатирует Доримонт, просмотрев записку. Зовут Левеля. Обман раскрывается. «Куда ты девал мои деньги, непотребной?!» — негодует Багенодьер. «Не должен ли ты был откупщику Гильому тремя тысячами рублей? Я заплатил, против воли вашей, наследнице его Зербине». Доримена принимается бранить кузнецов, Доримонт ее успокаивает: «Не почитаешь ли досадой нахальство этих господ? Плюнь на них, смейся их глупости!» Конец и дивертисмент, автор просит зрителей не сердиться и не драться с артистами, так как масок не бьют.
Пафос немудрящей этой пьесы был более чем понятен московскому зрителю 1756 года, когда русские купцы, промышленники, горнозаводчики начали теснить аристократию; нужен был Островский, чтобы изобразить этот процесс во всей красе. Москва всегда боится, что понаедут какие-нибудь «Новоприезжие» и упразднят здешний дух. То есть она, конечно, рада и «вечным французам» на Кузнецком мосту, и даже собственный театр начинает с французского водевиля за отсутствием русского репертуара — но ее вечно томит страх перед своими, русскими, но нестоличными. Ведь они грубы, глупы, обращения не знают, ведь они нас захватят — и потому надо их как можно скорее выставить дураками! Тот факт, что они кузнецы (или купцы, или в конце концов гастарбайтеры, то есть их руками все это благолепие и созидается), Москву никогда не заботит. Она ведь не для тех, кто работает, — она для тех, кто красиво тратит; и в этом смысле, воля ваша, за 255 лет ничего не изменилось. Легран не рассказывает нам, как сколотил свои денежки Доримонт; они у него есть — и все. Но к тем, кто заработал их своими руками, Москва традиционно сурова; им надо еще долго доказывать свою московскость. Чем же? Прежде всего умением презирать понаехавших; но это приобретается только во втором поколении. Будь в этой пьесе второй акт — он был бы о том, как сынок Барон, набравшись столичного лоску, третирует офицеров, разбогатевших во французских колониях — допустим, в Квебеке.
Нравится ли мне эта столичная матрица? Нет, конечно. Но она такова, и никогда другой не станет; вот почему из всего обширного наследия Леграна первый московский театр выбрал для своего открытия именно «Новоприезжих». Впрочем, столичный снобизм и ксенофобия — вещь одинаково естественная что для Парижа, что для Москвы. Разница в том, что Парижу есть чем гордиться помимо столичности. Что осталось в этом смысле у Москвы — честно сказать, не знаю.
26 января 2011 года
Жить очень трудно, брат
Ровно 90 лет назад — странно думать, сколько эпох вместили в себя эти 90, — собрались на первое свое заседание «Серапионовы братья», самая многообещающая и одаренная литературная группа послереволюционного Петербурга, в которой принято было выдуманное Фединым приветствие: «Здравствуй, брат, писать очень трудно».
Все «серапионы», начиная со старшего, Федина, и кончая младшим, Кавериным, — стартовали мощно, и даже Лев Лунц, душа объединения, студент-восточник, в 23 года умерший в Берлине от ревмокардита, за пять лет литературной работы написал достаточно, чтобы полноправно войти в историю русской литературы. Лунц и был последним, что их объединяло, — его именем они клялись, оно было их паролем и после того, как в 1926 году братство перестало собираться, разойдясь чересчур далеко. Никитин, Зощенко, Тихонов, Полонская, Вс. Иванов, Груздев, Познер — все оставили след; и всех хранила какая-то сила — не загробное ли заступничество Лунца? Все они умерли своей смертью, хоть прошли и террор, и войну.
Горько мне представлять их посмертную встречу — в нее отчего-то верится. У «серапионов» была строгая дисциплина: ради своих суббот они пренебрегали любыми делами; не может быть, чтобы, дождавшись в 1989 г. последнего, Каверина-Зильбера, они не сошлись невидимо в уцелевшем Доме искусств, в комнате Слонимского на втором этаже. Не знаю, что там теперь, кажется, клуб.
— Прости меня, Левушка, — сказал бы старший. — Ты все верно предсказал мне в последнем письме. Я написал семь советских романов — один другого унылее — и безнадежно увяз в последнем, уцелеет от меня только первый, в котором с миру по нитке надергано из всей мировой литературы, но есть живая растерянность хорошего человека, осознавшего, что быть человеком уже недостаточно. Я не помог издать твою книжку, хотя стал крупным сановником. Я предал многих друзей и травил многих великих сверстников. Старость моя была одинока. Если бы ты видел меня, высохшего, как Кащей, не способного выжать из себя ни строчки.
— И ты прости меня, Левушка, — сказал бы единственный поэт среди них. — Я не предавал друзей, но молча соглашался с их травлей. После первых двух книг не написал ничего значительного. Я тоже дослужился до больших советских чинов, повторял глупости со многих трибун (это называлось «защищать мир»), и стихи покинули меня. Но на старости лет я влюбился в переделкинскую медсестру и две тетради исписал любовной лирикой, детской, смешной, уже совершенно бездарной, — о, если бы ты видел меня, приплясывающего старца.
— Прости, Левушка, — сказал бы самый знаменитый и самый несчастный из них. — Я всегда любил тебя и помнил о тебе, и это удержало меня от многих компромиссов. Я честно пытался поверить в то, что победивший нас всех урод и есть новый человек нашей мечты, но я слышал его язык и умел писать на нем, и этот язык рассказал о нем все вернее любых умозрений. Я приписывал свои догадки застарелой ипохондрии, пытался лечиться, внушал себе бодрость. Я написал книгу о счастливом обретении душевного здоровья и надеялся, что она поможет победить все духовные болезни человечества, начиная с фашизма. Книгу ошельмовали, меня затравили, я ни в чем не покаялся, но никогда уже не оправился. Десять последних лет прожил в нищете, которой больше всего страшился, и умер, собирая ничтожные бумажки для ничтожной пенсии. Если бы ты видел меня, с мертвым лицом и голосом, задыхающегося на этих бесчисленных лестницах…
— Прости и ты меня, Лева, — сказал бы самый неоцененный и загадочный. — Всю жизнь я прожил автором партизанских повестей — худшего из того, что написал. Пятьдесят лет пролежали в столе «Кремль», «У», «Вулкан» — лучшие мои книги, а когда они вышли к читателю, спасенные женой, читать и понимать их было уже некому. Я никого не предал и многим помог, но не сумел помочь себе самому — я знал и умел много больше, чем сумел воплотить. Если бы ты видел меня, умирающего от рака, в полном сознании неосуществленности, и безвозвратности, и неистраченности дара!
И только одному — младшему — не в чем было бы виниться: он берег память друга, пробивал его книгу, поддерживал травимых. Однако годы отказа от своего заветного… от сказочных новелл, от острого и тонкого письма — ради вынужденно советских эпопей, которые только и спасал «серапионовский» элемент авантюры… Он честно проработал в литературе почти семьдесят лет, но часто ли был равен себе?
— Друзья мои! — утешил бы их Лунц, который всех умудрялся вывести из меланхолии неистощимыми шутками и юным азартом. — Вы рассказали мне грустную повесть, но разве не всякая жизнь сводится к ней? В России надо жить или очень долго, или очень мало, что и доказали мы с братом Вениамином. Любая жизнь — хроника неудач, предательств, отказа от себя самого, а в лучшем случае — история недоделанного и недосказанного. Но нам повезло — наша юность пришлась на великое событие, подлинное значение которого еще и теперь неясно. Оно озарило первые годы нашей работы, оказавшиеся лучшими у каждого; оно было катастрофично, а пожалуй, и бесчеловечно, — но тех, кто его застал, оно вырвало из обыденности и хоть на миг, а превратило в полубога. Что же дивиться, что с годами это излучение слабело?
Мы застали с вами волшебный нищий Петроград, в котором все веяло сказкой — западной или восточной, немецкой или персидской; мы застали город, в котором не было ничего, кроме литературы. Нас любили красавицы, перешивавшие юбки из старых портьер. Мы делились пайком, пьянели без спирта, сбегали от патрулей, провожая возлюбленных; по сравнению с этим любая дальнейшая жизнь покажется блеклой и пыльной. Мы были вместе всего пять лет, но каких лет! Дети, пожалуй, посмеются над нами, а внуки не поймут, но будут и правнуки — и они позавидуют, ибо великим событиям, как мы помним, суждено возвращение. Мне ли, не прожившему жизни, оставшемуся в этом времени, осуждать вас? Зато теперь все мы вместе в том Петрограде и напишем о нем наконец так, как он того заслуживал. Что еще делать здесь, где мы оказались, — где опять нет ничего, кроме литературы? Мы снова вместе, и, слава Богу, писать по-прежнему очень трудно. Но это лучше, чем жить.