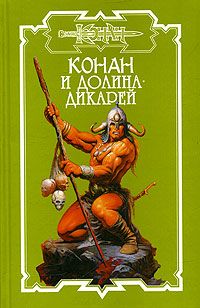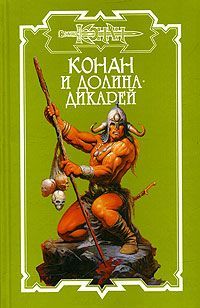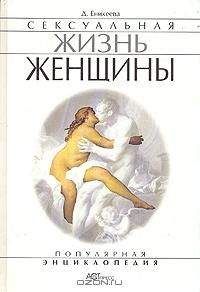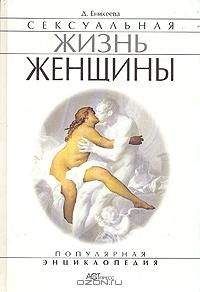Дмитрий Калюжный - Другая история литературы
Ренессанс XII века мы наблюдаем во всей Европе и на востоке, и на западе. А с учетом каролингского, оттоновского и македонского возрождений, произошедших еще до XII века, а также палеологовского возрождения обнаруживаем, что вся история средневековья не есть история в смысле эволюционного развития общества и государства, культуры и религии, искусства и литературы, а есть непрерывная череда «возрождений», плавно перетекающих одно в другое. Причем этой череде «возрождений» предшествовала череда «падений», произошедших после блистательного периода «древнего» развития тех же самых категорий: государства, культуры, литературы, правил общежития, мифов…
Иоанн Сольсберийский (XII век, Англия). «ПОЛИКРАТИК»:
«Об охоте, ее происхождении, ее видах и практике, допустимой и недопустимой.
Фиванцы первые, если верить истории, решили, что о ней нужно сообщить всем. В частности, это они составили правила этого промысла или, вернее, этого зла, отчего все стали смотреть на них с подозрением как на народ, опозоренный отцеубийствами, оскверненный кровосмешением, отмеченный печатью лжи и вероломства. Свои правила они передали затем народу изнеженному и слабосильному, ветреному и нескромному — я говорю о фригийцах. Фиванцы не были в чести у афинян и спартанцев, народов достойных, у которых тайны природы и таинства обычаев облачены были в нарядный покров исторических и баснословных деяний; эти сказки к тому же служили полезной цели, предостерегая от пороков и доставляя наслаждение своей поэтической прелестью.
Так, они рассказывают об охотнике-дарданце, который был похищен орлом на небо, где сначала служил Юпитеру как виночерпий, а потом для недозволенных и неестественных любовных ласк. И это совершенно естественно, поскольку крылатым созданиям присуща ветренность, а наслаждение, не знающее умеренности, не краснеет, предаваясь похоти с кем попало».
Вот еще мнения литературоведов, которые расскажут о параллелях между древностью и средневековьем лучше нас:
«Иоанн Цец являет собой в XII в. несколько устаревший к этому времени тип эрудита, каким его знала еще эпоха Фотия, Арефы, Константина Багрянородного (905–959 годы, линия № 6)».
«Евстафий Солунский еще в XII в. дошел в своей филологической работе до введения конъектур, т. е. до научной текстологии; а дальнейшее расширение текстологической и комментаторской деятельности было осуществлено Димитрием Триклинием (1 пол. XIV в.) и другими учеными палеологовской эпохи».
«Эпоха Палеологов создала свой гуманизм, в определенных отношениях аналогичный гуманизму Ренессанса (можно отметить культ классической древности — в одном, правда исключительном, случае Плифона…)».
«Эта страсть к платоновским словечкам, тонко подмеченная Николаем Кавасилой, представляет параллель не менее безудержному культу лексики Цицерона у западных гуманистов» (Цицерон относится к линии № 4–5).
«Линию Феодора Продрома продолжает в XIV в. поэт из Эфеса Мануил Фил».
Можно еще отметить опубликованное сочинение XII века под поразительным названием: «Драматическое сочинение, по Еврипиду излагающее, нас ради совершившееся воплощение и спасительное страдание господа нашего Иисуса Христа» (исторический Еврипид и евангельский Иисус принадлежат одной линии № 5). В общем, литературоведам всё давно известно, но они продолжают дурачить доверчивого читателя. Не пора ли им отказаться от негодной хронологии, дабы создать подлинную историю литературы? Пусть историки ориентируются на выводы литературоведов, а не наоборот.
В книге «Памятники византийской литературы IX–XIV веков» сказано:
«То, что греки XIV в. воспринимали воспетую Гомером троянскую легенду через западные подражания Диктису и Даресу, в высшей степени неожиданно, но по сути дела вполне понятно: время требовало такого прочтения легенды, которое соответствовало бы феодальному стилю жизневосприятия — а в этом „франки“ опередили византийцев».
Но ведь так можно объяснить вообще всё, что угодно! Ну, вот, требовало время «такого прочтения», и всё тут, не о чем больше говорить!
Дарес Фригиец и Диктис из Крита — средневековые авторы, видимо, современники Бенуа де Сент-Мора, написавшего «Роман о Трое» в 1160 году. А проблема в том, что в XIV веке византийцы описывали Троянскую войну уже не так, как Иоанн Цец в XII, и это сбивает литературоведов с толку. Например, они отмечают, что Константин Гермониак «уснастил свою Илиаду самыми колоритными анахронизмами (например, Ахилл предводительствует, кроме мирмидонян, еще болгарами и венграми!)». Вот почему они считают, что византийцы в своих описаниях идут вслед за французами. Мы же обнаружили, что XII и XIV века византийской волны — это одно и то же время, и что проблемы здесь нет; просто у одних авторов литературоведы находят меньше «анахронизмов», а у других больше, и делают из этого свои странные выводы. Причем они сами следуют за традиционной историей, вместе с ее хронологией, а потому, читая их «откровения», часто невозможно понять, кто кому и почему «следует».
О работах XIV века, неправомерно попавших в XII век, поговорили достаточно, и для сравнения стиля приведем здесь произведения неизвестных авторов реального XIV века. Именно к этому времени относят, например, «Ахиллеиду», хоть она и выполнена, говорят, как стилизация «под античность», то есть под XII век.
Ахиллеида (XIV век). «ПИСЬМО АХИЛЛА ПОЛИКСЕНЕ»:
…И вот он деве написал любовную записку,
Призвал к себе кормилицу и с ней послал записку,
И речи этой грамоты гласили слово в слово:
«Пишу письмо любовное, пишу, а сам тоскую.
Возьми письмо, прочти письмо, не отвергай признанья.
Услышь, о дева милая, услышь, цветок желанный:
Меня и стрелы не берут, и меч меня не ранит,
Но очи ранили твои, в полон меня забрали. —
Да, твой зрачок в конец смутил несчастный мой рассудок,
И сделал он меня рабом, рабом порабощенным.
О сжалься же, красавица, любезная девица,
Ведь сам Эрот — заступник мой, любви моей предстатель.
Не убивай меня, краса, своей гордыней лютой,
Пойми печаль, прими любовь, смягчи мои терзанья,
На сердце мне росу пролей — оно пылать устало!
Но если ты не сжалишься, не тронешься любовью,
Схвачу я меч и сам себя без жалости зарежу,
Клянусь тебе, владычица, — и ты виною будешь».
Вот он незамедлительно послал письмо девице,
Она же, в руки получив Ахиллово писанье,
Не сжалилась, не тронулась, любви не сострадала,
Но села и, не мешкая, ответ свой написала,
И речи этой грамоты гласили слово в слово:
«Мой господин, письмо твое мне передали в руки,
Но отчего ты так скорбишь, я, право же, не знаю.
Коль скоро мучают тебя, в полон поймав, Эроты,
Ты их и должен попросить, любезный, о пощаде.
А мне и вовсе дела нет до всяких там Эротов;
Любви меня не одолеть, Эротам не осилить,
Не знаю стрел Эротовых, не знаю мук любовных.
А ты, уж если боль твоя взаправду нестерпима,
Один изволь убить себя, один прощайся с жизнью!»
Безымянный. РОМАН О КАЛЛИМАХЕ И ХОСРОЕ (XIV век):
«О деве, что висела там, рассказ идет печальный»
«Посередине потолка — но и сказать мне жутко —
На волосах висела там девица одиноко —
Трепещет сердце у меня, душа трепещет в страхе —
На волосах — увы, судьбы неслыханная воля —
На волосах висела там девица — я смолкаю,
Да, я смолкаю, но пишу, а сердце замирает —
На волосах висела там красавица-девица.
И только на нее взглянул тут младший из трех братьев,
Как младший этот, Каллимах, красот всех воплощенье
И смелости, и мужества, и доблести, и силы,
Остолбенел и тотчас же он замер, словно камень
Смотрел лишь на нее одну, стоял и все смотрел он.
Как будто и она была на потолке картиной.
Всю душу красотой своей могла она похитить:
Умолкнувший немел язык, и замирало сердце.
Налюбоваться он не мог чудесной этой девой,
На красоту ее смотря и женственную прелесть.
Стоял, смотрел, не говоря, души в груди не чуя,
Стоял, смотрел, и сердце в нем двояко поражалось —
Очарованьем красоты и чувством состраданья;
Молчал, а из груди его лишь стоны вырывались».
«Ответ печальный юноше, девицей этой данный»:
«Она же с горестной мольбой, отчаяньем томима,
Вздохнув уныло, языком, запекшимся от муки,
Ему сказала: „Кто ты, друг? Откуда ты явился?
Когда не призрак только ты в обличье человека,
Ты мужествен, разумен иль ты глуп и безнадежен?
Кто ты и почему молчишь, стоишь и только смотришь?
Коль ты моею злой судьбой мне на мученье послан,
Так не щади меня и мучь, коль ты ее приспешник:
На муки отдано мое, как сам ты видишь, тело.
А коль мучениям моим ты сострадаешь, видно,
И коль завистница судьба пресытилась моими
Страданьями, которыми меня она давно терзает,
И нынче в утешенье мне тебя сюда послала,
Чтоб ты освободил меня от всех моих терзаний,
То я благодарю судьбу: убей меня, прикончи!
Но если ты пришел сюда, хоть это невозможно
Да и бессмысленно совсем, чтобы меня утешить,
Скажи хоть слово! Что молчишь? Пускай передохну я.
Драконово жилище здесь, обитель людоеда.
Не слышишь разве грома ты, не видишь разве молний?
Идет сюда он! Что стоишь? Идет, беги скорее,
Укройся! Ведь силен дракон, отродье людоеда.
Коль утаишься, то в живых останешься, быть может.
Серебряную видишь ты, там, в стороне, лоханку?
Прикройся ею, под нее подлезь ты и упрячься
И, может статься, ускользнешь от жадного дракона.
Беги же, спрячься там, молчи: вот он уже подходит!“
Последовал совету он и внял словам разумным
Девицы той, которая на волосах висела,
Не медля, под лохань подлез, и ею он укрылся».
Католический историк и писатель Иоанн Хильдесхаймский жил в XIV веке. Вспоминаем его не только для того, чтобы показать образец прозаического стиля. В его творчестве интересно также то, что, хоть он и не сыплет направо и налево именами античных богов, но хронология его повествований, тем не менее, тоже не сходна с традиционной. Например, он сообщает, что мать Константина Великого св. Елена (255–330) перенесла священное древо в храм св. Софии, который был построен в VI веке, — как считается, Юстинианом.