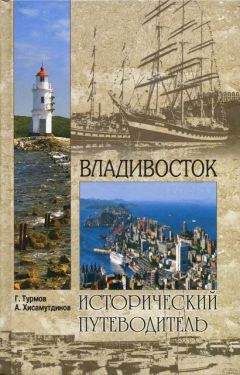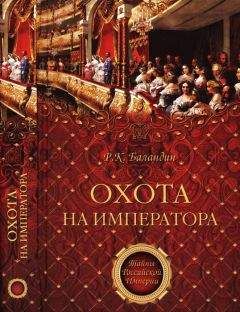Н. Зверева - Мастерство режиссера
Зрительское сопереживание - явление сложное и до сих пор малоизученное. Способность к сопереживанию драматическому действию выработалось у цивилизованного человечества постепенно и может считаться одним из важнейших плодов развития человеческой культуры. Она возникла как свойство коллективной психической деятельности, что ни в малой степени не утратило своего значения и по сей день. Коллективному характеру восприятия спектакля огромное значение придавал К. С. Станиславский: «Насыщенная атмосфера спектакля развивает заразительную массовую эмоцию. Зрители, взаимно гипнотизируя друг друга, тем самым еще сильнее развивают силу сценического воздействия» [152]. Реакция одного зрителя как бы координируется реакцией всего зрительного зала, и это общее эмоциональное впечатление от спектакля для каждого отдельного зрителя, как правило, является определяющим.
Как же возникает сопереживание? Б. Брехт, считавший, что сопереживание в театре вредно, так как, по его мнению, оно мешает постижению зрителем идеи произведения, именно в силу своего отрицательного отношения к явлению сопереживания, может быть, более, чем кто-либо другой, занимался изучением этого эффекта, сделав ряд важных наблюдений. Для Брехта первопричиной возникновения процесса сопереживания зрителя герою служит прием перевоплощения актера в играемый образ по законам системы К. С. Станиславского. «Вживание, - пишет Брехт, - вот краеугольный камень господствующей эстетики… Актер подражает героям (Эдипу или Прометею) и делает это с такой убедительностью, с такой силой перевоплощения, что зритель подражает в этом актеру и таким образом начинает обладать переживаниями героя» [153] . И далее: «Усилия актера перевоплотиться в персонаж пьесы вплоть до утраты собственного «я»… служат возможно более полной идентификации зрителя с персонажем или его антагонистами. Само собой разумеется, Станиславскому тоже известно, что говорить о цивилизованном театре можно только тогда, когда эта идентификация не является полной: зритель не перестает сознавать, что он в театре. Иллюзия, которой он наслаждается, осознается им как таковая. Идеология трагедии живет этим желанным противоречием… Однако и другая манера игры, не стремящаяся к идентификации зрителя с актером (и называемая нами «эпической»), также не заинтересована в полном исключении идентификации» [154].
Таким образом, очевидно, что сам Брехт указывает на то обстоятельство, что обе театральные системы строятся на использовании одного и того же свойства театра - на двойственности зрительского восприятия. Правда, Брехт нигде не ставит способ перевоплощения актера в образ в прямую зависимость от жанра спектакля, если не считать процитированный выше намек на требование полного перевоплощения в трагедии, что тоже очень существенно. Главная ценность открытия Брехта состоит в том, что он указывает на возможность театра устанавливать различные способы взаимоотношений со зрителем: от тенденции Станиславского к тому, что «зритель должен забыть, что он в театре», до требования самого Брехта о том, что «зритель не должен ни на миг забывать, что он в театре». Все рассуждения Брехта доказывают, что характер взаимоотношений театра со зрителем зависит от способа воплощения образа актером, от манеры актерской игры.
Вероятно, нет ни одного теоретика театра, который, рассуждая о проблеме воплощения жанровых особенностей спектакля в актерской игре, не говорил бы о том, что каждому жанру свойственна своя природа чувств и страстей. Вот, например, высказывание Г. Н. Бояджиева: «Каждый жанр имеет свою эмоциональную партитуру, свой тип переживаний, их качество и меру. Поэтому нельзя, например, природу страстей драматических вводить в жанр комедийный и наоборот» [155] . Такая точка зрения как бы общепринята. И в то же время, когда заходит речь о методологии актерского творчества, положение это почему-то уходит из поля зрения исследователей. Получается, что сценическое действие и другие элементы актерской технологии существуют сами по себе, вне жанра и вне тенденции к воздействию на зрителя. Между тем говорить о тех или иных законах актерской профессии в отрыве от условий конкретного драматургического и сценического материала - значит превратить сам метод в некую «отмычку», при помощи которой «взламывается» дверь в любую пьесу, вместо того чтобы каждый раз уметь подобрать к этой двери нужный ключ. Практика убедительно доказала, что законы, открытые Станиславским, имеют всеобъемлющий характер и раскрывают пути к установлению любых форм контакта со зрителем, кроме одной: отсутствия всякого контакта, то есть той театральной системы, которая живет традициями «школы представления» и которую Питер Брук назвал предельно точно: «Неживой театр».
Театр живой, способный к естественному контакту со зрителем, импровизационно откликающийся на дыхание зала, в своей основе имеет перевоплощение актера в образ; при этом взаимоотношения актера с образом могут быть весьма различны, они зависят от жанровых особенностей пьесы и спектакля.
Как известно, перевоплощение достигается актером на основе творческой веры в воображаемую реальность, путь же к вере в жизнь, создаваемую воображением, лежит через магическое «если бы» Станиславского: «Он (актер. - П. П.) не забывает, что окружающие его на сцене декорации, бутафория - не что иное, как декорация, бутафория и т. д., но это не имеет для него никакого значения. Он как он говорит себе: «Я знаю, что все окружающее меня на сцене есть грубая подделка под действительность, есть ложь. Но е с л и бы все это было правдой, вот как я отнесся бы к такому-то явлению, вот как я поступил бы…» И с того момента, как в его душе возникает это творческое «если бы», окружающая его реальная жизнь перестает интересовать его, и он переносится в плоскость иной, создаваемой им воображаемой жизни» [156]. Однако параметры этой воображаемой реальности весьма различны в зависимости от условий жанра. Одно дело - поверить в реальность событий психологической драмы, стремящейся к максимально полному воссозданию жизненной достоверности, другое - трагедии, с ее предельно напряженной событийностью и оторванностью от подробностей быта, и совсем уж иное - комедии. Очевидно, что условия жанра диктуют свои требования к характеру актерской фантазии; «если бы» также претерпевает качественные изменения.
Возьмем комедию (особенно сатирическую). Ее обстоятельства и события таковы, что актеру необходимо проделать некоторое, весьма значительное психологическое усилие, чтобы поверить в ее деформированный, сильно отличающийся от реального условный мир. Дистанция, существующая в комедии между актером и образом, ощущается значительно более явно, чем, например, в психологической драме. Тот факт, что «…какая-то часть его (актера. - П. П.) сознания должна оставаться свободной от захвата пьесой для контроля над всем, что он испытывает и совершает как исполнитель своей роли» [157], приобретает в комедии особое значение. Более того, работа над комедией требует некоторых особых свойств психического склада личности артиста, определяющих его способность к воплощению этого жанра. Отсюда и деление актеров на амплуа в старом театре. Однако практика школы Станиславского, отрицающей само понятие амплуа, доказывает, что актер, воспитанный этим методом, в принципе способен воплотить жанровые особенности самой разнообразной драматургии, а стало быть, и воплотить сценический образ любой степени художественной условности.
Ярким примером, раскрывавшим суть взаимоотношений актера и его комедийного персонажа, является работа М. А. Чехова над ролью Хлестакова. «Можно вспоминать и вспоминать этого уникального, неповторимого Хлестакова, - пишет М. О. Кнебель, - ив каждом примере будет ни с чем не сравнимое искусство жизни в образе» [158] . И при всем том Чехов лепил своего героя не только «изнутри», но и как бы с некоторого расстояния, что видно хотя бы из знаменитого эпизода с квадратным арбузом. М. Кнебель так вспоминает слова М. Чехова: «Когда я сказал: «На столе, например, арбуз - в семьсот рублей арбуз», - я вдруг понял, что арбуз в семьсот рублей не может быть обычной формы…» [159] . Здесь очень ясно видно, как артист контролирует свое поведение в образе, и именно этот взгляд на себя «со стороны» подталкивает в определенном направлении деятельность актерской фантазии, а ощущение дистанции между актером и ролью стимулирует импровизацию в комедии.
- Напротив, в трагедии или в романтической драме такое ощущение дистанции мешало бы нормальному творчеству артиста. «Актер, действующий в романтическом плане, чувствует себя по отношению к герою несколько приниженно, изображая возвышенный характер, он как бы сознает, что его собственными человеческими средствами этой задачи не выполнить. Для этого необходимо действовать предельно торжественно и величаво, с тем чтобы выразить почтительное отношение актера к герою… «Главенство» образа над актером бывает до такой степени полным, что в иных случаях фальшивая, романтическая манера игры становится свойством личного характера актера, который даже в частной жизни самым искренним образом не может сказать слова в простоте, а все с романтической ужимкой» [160] . Эстетический и методологический вывих губительно отзывается на самой личности художника; что же говорить о его творении!