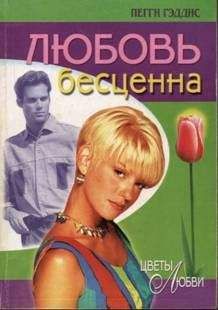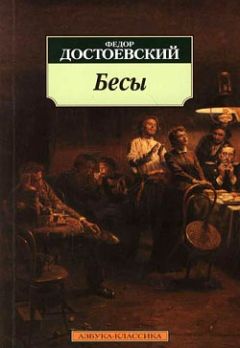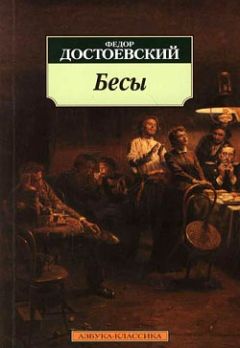Уильям Гэддис: искусство романа - Мур Стивен
Фрэзер дополняет рассказ о суевериях, связанных с зеркалами (чем пользовался Гэддис), такими же суевериями о портретах: так, они «содержат в себе душу изображенного лица» [58]. Лица (если не души) большей части важных персонажей либо запечатлены на холсте, либо сравниваются с картинами. С преподобного Гвайна, как отмечалось выше, сдирают кожу в облике продажного судьи на ученической картине Уайатта; Эстер напоминает «портрет женщины с крупными костями лица, но непримечательным носом», который реставрирует ее муж; над нелепым портретом Ректалла Брауна постоянно насмехаются; Ансельм и Стэнли напоминают репродукцию Кете Кольвиц, на которой двое заключенных слушают музыку; Эсме не только «думает, что сама и есть картина. Картина маслом, на которую и дохнуть нельзя», но и позирует, как Дева Мария для уайаттовских подделок, а сам Уайатт принимает роль распятого Христа: Сын, оплакиваемый Матерью.
«Похоже, подобные картины имеют эффект психологической магии для пациента, — пишет Юнг о подопечном, который тоже пользовался живописью для достижения индивидуации. «Потому что выраженное через рисование способно исправить некоторые подсознательные детали и обрисовать остальные вокруг него, что в этом плане для него похоже на магию, только над собой» [59]. Сознательные и эстетические конфликты Уайатта с искусством уже рассматривались в критике [60], но для дальнейшего понимания его бессознательного конфликта и важности появлений матери в картинах сына необходимо разобрать другой мифический символ.

Уильям Гэддис в Испании, фотография 1950 года, времен работы над «Распознаваниями» (фото из личного архива Стивена Мура)
МЕТАНИЯ МЕЖДУ СОЛНЦЕМ И ЛУНОЙ
Начав роман с похорон Камиллы, Гэддис привлекает наше внимание к персонажу, который меньше всех появляется в книге, но тем не менее оказывает самое сильное влияние на Уайатта, — к его матери. Фактически ее единственное появление в хронологическом развитии романа (так мы исключаем флэшбеки на страницах 14 и 52) — это призрак, возникающий перед трехлетним Уайаттом в момент ее смерти в открытом море. Способность видеть призрак матери, говорит Аниэла Яффе в своем юнгианском исследовании «Видения и предвидения», «указывает на обостренное бессознательное или относительно легкое и быстрое снижение порога сознательного» и «обозначает тесную связь с бессознательным, то есть укорененность в инстинктивной жизни», так как «мы не должны забывать, что «мать» — это давно устоявшийся символ бессознательного» [61]. Уайатт видит Камиллу, но она исчезает при появлении тети Мэй — точно так же от тети Мэй улетает малиновка, — а значит, при отрицании бессознательного, инстинктивного, эмоционального, и, конечно же, иррационального, приводится в движение дихотомия, действующая во всем — противостояние сознательного и бессознательного, матери и отца, инстинкта и интеллекта, эмоций и рациональности, ночи и дня, язычества и христианства и так далее. Извращенный влиянием тети Мэй и лишь сбитый с толку влиянием отца, в дальнейшем Уайатт будет метаться между двумя крайностями, представленными в виде отца и матери, подобно путешествию Криспина — «колебанию меж двух стихий, / Луны и солнца» [62], из поэмы Уоллеса Стивенса, пока не поймет: ни одна крайность не должна превосходить другую, нужно взять лучшее от обеих.
Очевидно, на эту схематичную психологическую программу нужно нарастить «мясо». Необходимость в интеграции сознательного и бессознательного — открытие не современное, а скорее древнее, с богатой и экзотической историей. Оно в центре таких неожиданных дисциплин, как алхимия, колдовство, гностицизм, «настоящая» поэзия (как Роберт Грейвс обозначает ее в «Белой богине»), и прочих ересей — все это можно найти в насыщенной первой главе «Распознаваний». До того, как о бессознательном заговорили современные психологи, его функции описали в других категориях те, кто понимал: восприятие — это не только то, что дает нам дневное сознание. Об этом альтернативном сознании говорят большинство платонических и восточных философий, все оккультные традиции, мистические ответвления институциональных религий — и нет счета методам, с помощью которых адепты стремились прикоснуться к его уникальным силам. Самые универсальные символы этих двух моделей сознания — Солнце и Луна; с Солнцем ассоциируются так называемые мужские черты — рациональность, интеллект, порядок, обособленность, логика и так далее; Луне приписывают противоположные, женские черты: интуиция, эмоции, нежность, гармония и так далее. Следовательно, уже привычно говорить о противопоставлении солнечного сознания и лунного: для большинства интеллектуальных занятий и институциональных религий нужно солнечное мышление, а большая часть мистических и оккультных традиций, как и художественное творчество, отдают дань уважения Луне. Ницше говорил о различии между аполлонической и дионисийской энергией, научные дискуссии двадцатого века сосредоточились на двух полушариях мозга: левое отвечает за традиционные мужские черты, а правое — за женские. И хотя эти исследования могут привнести в вопрос новую психологическую ясность, на данный момент пока еще уместно говорить о солнечном и лунном сознании из-за их богатого символического наследия — и тем более потому, что самые явные и очевидные модели образов в «Распознаваниях» — это символические приравнивания преподобного Гвайна к Солнцу, а Камиллы — к Луне. Приравняв их уже в начале первой главы, Гэддис пользуется обилием религиозных и мифологических коннотаций Солнца и Луны, мастерски расширяя пространство внутренней борьбы Уайатта за психологическую целостность до вселенских масштабов, привлекая архетипические образы, влиявшие на цивилизацию с самого начала известной истории. Вездесущность солнечных и лунных образов в романе не только превращает даже погоду в красноречивые знаки,указывающие на психологическое состояние Уайатта, но также освещает и оправдывает другие загадочные образы и отсылки, которые могли бы показаться излишними в ином случае.
Символическое соотношение Солнца и преподобного Гвайна вводится и поддерживается главным образом за счет его увлечения митраизмом — персидским предшественником и ранним конкурентом христианства, где божество считается Sol Invictus, то есть Непобедимым Солнцем. Уже на восьмой странице читателю с типичным для Гэддиса ироничным намеком сообщают: в семинарии Гвайн «начал курс митридатизма, что еще сослужит ему добрую службу на склоне лет». Еще мы узнаем, что до возвращения в Новую Англию после похорон Камиллы он посетил митраистский храм под базиликой святого Климента в Риме (сам Гэддис посетит ее только в 1984-м). Гвайн расправил плечи, «когда возвращался из того подземного митреума», убедившись, что христианство — подделка митраизма, и посвятил себя не Сыну, а Солнцу.
Но перед этим ему является Камилла в сверхъестественном обличии — тогда она впервые символически приравнивается к Луне. Через пару месяцев после смерти жены Гвайн заболевает и впадает в бред в монастыре Real Monasterio de Nuestra Señora de la Otra Vez [63]:
Так он лежал однажды вечером, покрытый испариной несмотря на холод, почти заснув, как тут его внезапно разбудила рука жены, на плече, как она будила раньше. Он с трудом добрался с постели в алькове через комнату к окну, где холодный свет тихо отражал эхом его шаги. Там светила луна, тянувшая неподвижную руку за него — к постели, где он лежал. Так он шатко стоял в холодных спутанных слогах, почти составившихся в ее имя, словно мог вспомнить и призвать обратно времена до того, как смерть вошла в мир, до трагедии, до волшебства и до того, как волшебство отчаялось и стало религией.