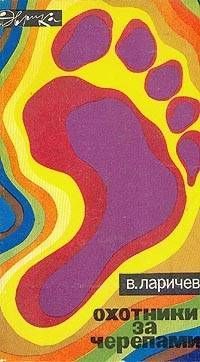Михаил Лифшиц - На деревню дедушке
Здесь с нами говорит, положа руку на сердце, один из самых сознательных художников мира — не только оригинальный писатель, но и глубокий ум, постоянно изучавший действо творческой силы в самом себе. Для Гете индивидуальность тем более развита и свободна, чем больше она наполнена общественным содержанием. Я привел слова Гете, но с таким же правом можно привести слова Дидро, Бальзака, Пушкина, Белинского и многих других авторитетных лиц — авторитетных по крайней мере для таких консерваторов, как я. Все они полагали, что писатель прежде всего «коллективное существо», воплощение чего—то большего, чем он сам, пророк, способный услышать диктат действительности и, говоря от имени этой силы, а не от лица своей собственной милости, глаголом жечь сердца людей.
Бессмысленные мечтания! — скажет А.Дымшиц и вся его движущаяся эстетика. Дело искусства — заниматься индивидуальным видением мира по специальности, а не соваться в такие дела, где костей не соберешь. Послушайте движущуюся эстетику, и у вас составится представление, что между индивидуальностью и общественным началом идет постоянный арифметический спор: то личное видение растет, то общество наступает.
— Отдайте мне мое видение!
— Нет, шалишь, так можно дойти до «трактовки с субъективистских позиций». Решение задачи, согласно инструкции А.Дымшица, носит умеренно дисциплинарный характер. Немного видения можете получить.
— Отпустите гражданину индивидуальности!
— Ну, а дальше?
— Закрыто на учет.
Теперь прошу, войдите в мое положение. А.Дымшиц, конечно, вооружен дружелюбием до зубов, однако его желание свалить на меня грехи прошлого мне не нравится. Кругом такой множественный разговор в неопределенном наклонении пошел, что могут поверить. Мы лучше знаем спутники Марса, чем нашу собственную историю. Прочтут и скажут: «Все вы хороши!» — или подумают, что А.Дымшиц всегда шел впереди прогресса, а я его… ну, да что говорить!
Движущаяся эстетика пишет, что от меня может пострадать личность писателя и я будто хочу «обеднить наше представление об отношении художника к действительности». Нет, я этого не хочу, и личность от меня не пострадает — здесь чистое недоразумение. Просто мы с движущейся эстетикой говорим на разных языках, а если употребляем одни и те же слова, то думаем при этом о разных понятиях.
А.Дымшиц с возмущением доводит до сведения публики, что я покушаюсь на приусадебные участки в эстетике и даже мыслю забрать у писателя его кур—несушек. Конечно, на это пойти нельзя. По мнению А.Дымшица, полное разорение личного хозяйства недопустимо — может выйти «абсурд всеобщности».
Вы правы, сударь, но у меня речь идет о другом. Я говорю о той общественной силе, которая не теснит индивидуальность, а высекает ее, как искру из камня. С моей устаревшей точки зрения, истина, единая и неделимая, при всех ее исторических противоречиях, возбуждает своим безусловным, святым энтузиазмом духовную энергию личности. Гнев рождает поэтов, лихая година будит могучие характеры, бескорыстная преданность «всеобщему» дает людям направление, делает их людьми партии, как Мильтон, бесконечно своеобразными личностями, как Достоевский.
Куда вы денете эти маратовские индивидуальности? Не нужен им ваш отдельный мир с личным видением. Нет, этим людям подай все, им нужна площадь, они хотят всех обратить в свою веру, они тем и велики, что не пойдут мириться с либеральной посредственностью. Даже их глубокие заблуждения /как я старался показать лет тридцать назад/ не только минус. Это отрицательная величина, но величина. Так, в исступленной вере Достоевского виден весь человек, и даже его темные идеи — не просто «особый голос» писателя, а борьба разума против самого себя, обращенная сила демократии. «Если у большого человека есть темный угол, то он особенно темен!» — сказал Гете.
А движущаяся эстетика говорит о другом. У нас теперь в моде «плюрализм», то есть множество истин, и «полифония», то есть множество голосов. Другими словами, есть у тебя жердочка? Вот и хорошо — сиди на ней и пой своим голосом. Всяк сверчок знай свой шесток. Самое главное, чтобы звукопроводности не было — перегородки нужны капитальные. Иначе возникает «абсурд всеобщности».
В этом и состоит основная проблема движущейся эстетики, и вот почему я думаю, что мы говорим с ней на разных языках. Кто тут новатор и кто консерватор — судить не буду, но кажется мне, что эстетика видения старше крепостного права. Отдай кесарево кесарю и устраивайся, как можешь. Сумел — хорошо, да смотри не зарывайся: А.Дымшиц не спит!
Или, может быть, он спит и видит волшебный сон. В тумане мифотворчества встает перед ним идеальный мир, столь фантастический, что сам Пикассо не мог бы его вообразить. Все в этом мире расколото надвое. По одну сторону «всеобщность» в своей серой одежде, состоящая под особым надзором движущейся эстетики, а по другую сторону… боже мой, что там видится! Все так и кипит, свистит, переливается всеми цветами радуги, как на ярмарке. Что такое, по какому случаю? Не пугайтесь. Это население утопии А.Дымшица, каждый по—своему, вроде бурсаков Помяловского, хочет выразить свою индивидуальность и по силе возможности учинить что—нибудь неподобное. То загородку снесут, то на стенe уравнение с двумя неизвестными напишут, ну, и другие всякие пассадобли разделывают. Одним словом, полный «абсурд оригинальности»!
Как тут обойтись без А.Дымшица? Нельзя без него, необходим для порядку. Да вы его не бойтесь, он зря никому худого не сделает — любит, чтобы все было по—хорошему. Пусть каждый гордо несет перед ним свою индивидуальность. Одним словом, можете печь пироги невозбранно, обыватель да яст!
Вы спросите, Константин Макарыч, что же сама индивидуальность об этом думает, как она себя держит? По—разному… Вот, например, в лице В.Непомнящего индивидуальность просит отеческой ласки, и обращает она свои сиротские взоры не к вам, дедушка, а к самому А.Дымшицу. Обещает ему индивидуальность тереть табак и молиться богу. А если что, говорит, то секи меня, как Сидорову козу.
Недавно был я в гостях у моего старого друга Ивана Жукова. Он теперь работает по геологической части. Долго жил на Севере, приобрел там новую специальность, вернулся и много успел. Мы часто беседуем с ним на разные ведущие темы, не об искусстве, конечно. Но тут мне хотелось проверить себя, и вышел у нас такой разговор:
— Ходят слухи, что в искусстве важнее всего субъективное видение мира или «человеческое присутствие». Говорят, теперь эта штука считается последним словом марксизма. Даже А.Дымшиц зашатался. Он, конечно, так далеко не идет, но за «видение» стоит горой. Что ты об этом думаешь?
— А мне все это до лампочки. Нам с тобой что нужно? Нам правда нужна — самая полная и всеобщая, а не закрытая, персональная или участковая. Правда для всех, не для особого пользования и по возможности без всякого «присутствия». Надоела эта правда с чьим—то обязательным присутствием. На вот, прочти у Ленина: «Не надо обольщать себя неправдой. Это вредно. Это — главный источник нашего бюрократизма».
— Ну, о правде теперь все говорят. Кто против нее?
— Говорят, но с оговорками, и оговорки эти давно начались. Было уже основание для беспокойства, когда Ленин в 1922 году писал о неправде обольщающей. А за год до этого он, тоже не без намерения, сказал в своей речи на пленуме Московского Совета:
«Мы в 1920 году предложили польским помещикам и буржуазии мир на условиях, более для них выгодных, чем те, которые они имеют сейчас. Они тут получили урок, и весь мир получил урок, которого никто раньше не ожидал. Когда мы говорим о своем положении, мы говорим правду, мы скорее преувеличиваем немного в худшую сторону, Мы в апреле 1920 года говорили : транспорт падает, продовольствия нет. Писали это открыто в своих газетах, говорили на тысячных собраниях в лучших залах Москвы и Петрограда. Шпионы Европы спешили это послать по телеграфу, а там потирали руки: «Валяйте, поляки, видите, как у них плохо, мы их сейчас раздавим», а мы говорили правду, иногда преувеличивая в худшую сторону. Пускай рабочие и крестьяне знают, что трудности не кончены. И когда польская армия под присмотром французских, английских и других специалистов—инструкторов, на их капиталы, с их амуницией пошла, она была разбита, И теперь, когда мы говорили, что у нас плохо, когда наши послы шлют сообщения, что во всей буржуазной прессе печатается: «Конец Советской власти», когда даже Чернов сказал, что она несомненно падет, — тогда мы говорим: «Кричите, сколько влезет, на то свобода печати на капиталистические деньги: этой свободы у вас сколько угодно, а мы нисколько не будем бояться печальную правду говорить. Да, в эту весну положение опять ухудшилось, и теперь наши газеты полны признания того, что положение плохо. А попробуйте, тамошние капиталисты, меньшевики, эсеры, семеновцы или как они там называются, попробуйте на этом что–нибудь заработать, полетите еще хуже, дальше и глубже.»