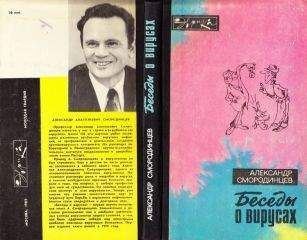Нина Меднис - Поэтика и семиотика русской литературы
При этом следует отметить, что с течением времени экстенсивность развертывания данного мотива в лирике Пушкина снижается, а интенсивность его звучания резко возрастает. Однако между этими двумя этапами лежит переходный период, который неожиданно приходится на тот отрезок пути, когда мотив пустыни, казалось бы, должен стать одним из ведущих в пушкинской лирике, в том числе и по частотным признакам, – это период с 1820 по 1825 год.
В библейской традиции, как известно, мотив пустыни связан с мотивом исхода, ухода, бегства. Жизненная ситуация этого периода, которую Пушкин обозначает как добровольный уход, бегство, казалось бы, должна актуализировать исходные ассоциации и вызвать количественный скачок в обращении к мотиву пустыни, но в лирике этих лет данный мотив звучит лишь ослабленным эхом 10-х годов. Кроме того, намечается своеобразное отчуждение интересующего нас мотива: Пушкин связывает его с Овидием, Наполеоном, опосредованно с собой через пространство Овидия. Свое же собственное пространство теперь обозначается как «проклятый город Кишинев», глушь, сумрачные сени и т. п. Причем порой этот мир нарочито депоэтизируется (см.: «Из письма к Вяземскому», 1825). Одновременно, пока еще в отчужденном варианте, мотив пустыни начинает приобретать традиционно библейские черты «пустыни мрачной» («К Овидию», 1821). Эти перемены, едва наметившись, много говорят об изменении пушкинского ментального пространства. Поэт, который, как мы замечали, находился в центре пустыни поэтической, перестает быть в данном отношении фигурой структурообразующей. Он постепенно начинает смещаться к периферии, и по мере этого смещения сама пустыня меняется, становится все более суровой, чужой, пугающей, как всякий децентрализованный мир. Поэту открывается новое духовное пространство, перед которым он не защищен, но от которого не может уйти. Это, с одной стороны, пространство его внутреннего Я, с другой стороны, мир высшего, трансцендентного. Встреча данных пространств является, видимо, главной проблемой, которую Пушкин будет решать до конца жизни и которая в Библии воплощена именно в символике пустыни.
Знаки новой духовной ситуации явлены уже в 1824 году, когда в «Подражаниях Корану» у Пушкина впервые возникает образ библейской пустыни. Причем он сразу вводится очень интенсивно. В IX стихотворении цикла слово «пустыня» отсутствует лишь в последней строфе, где речь идет отнюдь не о возврате путника к исходному состоянию, но об абсолютно новом качестве восприятия бытия, которое в Библии связано с символическим преодолением пустыни:
И чувствует путник и силу, и радость;
В крови заиграла воскресшая младость;
Святые восторги наполнили грудь:
И с Богом он дале пускается в путь.
Следует отметить, что это IХ стихотворение цикла содержит наиболее свободное, не связанное с текстом Корана, развитие сюжета, то есть оно наименее объективировано через чужой текст.
Важно также, что здесь возникает производный мотив скитаний в пустыне, который два года спустя в стихотворении «Пророк» трансформируется в мотив скитаний духовных. В нем пустыня представлена уже как место смерти и рождения, как пространство, где завершается старый путь и начинается новый, и, гораздо сильнее, чем в IX подражании Корану – как место встречи с Богом.
По многочисленным свидетельствам отцов церкви и теологов, далеко не каждому человеку дано прийти к такой пустыне, а тем более вступить в нее. У Пушкина, раз возникнув, образ библейской – пугающей и испытующей – пустыни складывается в устойчивый мотив, не уходящий более из его лирики. Та, прежняя, пустыня была неким субъективным пространством, созданным сознанием стихотворца; эта пустыня оказывается неподвластна поэтической субъективности и даже противостоит ей, будучи связана с трансцендентным. Поэтическая пустыня отчасти сохраняется в творчестве Пушкина как привычная формула художественного языка; новая вводится как структурообразующее начало иного поэтического, психологического, философского контекста.
Однако библейская пустыня, как известно, есть место встречи не только с Богом, но и с его вечным противником. И это делает путь в пустыне особенно опасным. Здесь есть только два варианта: либо спасение, либо гибель; третьего не дано. Поэтому у Пушкина возникает два лика пустыни: как средоточия зла («Анчар», 1828) и как надежды на спасение («Странник», 1835). В последнем, правда, вместо слова «пустыня» поэт употребляет слово «долина» («Однажды, странствуя среди долины дикой…»), но эпитет «дикой» указывает на традиционно-пустынные признаки пространства.
Показателен и возврат позднего Пушкина к образу пустынника, но теперь уже в другом, подлинно сакральном значении слова – «Отцы пустынники и жены непорочны…» (1836). При этом авторское Я (я – пустынник) сменяется отъединенным ОНИ, а между этими двумя полюсами:
Напрасно я бегу к сионским высотам,
Грех алчный гонится за мною по пятам…
Таким образом, в мотивном контексте пушкинской лирики представлены две совершенно отличные друг от друга пустыни: первая, где организующим и гармонизирующим центром является лирическое Я поэта, и вторая, в принципе лишенная человеческого центра, для человека – деструктурированная, но с присутствующим в каждой ее точке началом абсолютного зла и абсолютного добра. Движение от первой ко второй выстраивается в творчестве Пушкина как некий единый лирический сюжет, который одновременно являет собой и внутренний сюжет жизни поэта.
Семиотика края в творчестве Пушкина
Среди работ В. Н. Топорова есть статья о рецепции поэзии Жуковского в начале ХХ века, названная автором «Тяга к бездне». Работа эта менее известна, чем другие его труды, хотя она тесно связана с такой, теперь уже почти хрестоматийной, статьей, как «Петербург и петербургский текст русской литературы». Сопоставляя стихотворение Блока «По улицам метель метет…» (1907) и балладу Жуковского «Рыбак» (1818), апеллируя далее к роману Андрея Белого «Серебряный голубь» (1910), В. Н. Топоров делает вывод о родственности двух мотивов: «первый – воды и огня, при кажущейся их противоположности (вплоть до взаимоисключения) несущих гибель и в своей гибельности, по существу, нейтрализующих свое коренное различие <…> второй – тяга к бездне, какой бы она ни была, во многих вариантах “Петербургского текста”»[31].
Бездна как сильный семиотический знак любой модели мира присутствует в творчестве многих поэтов, хотя ее означающие могут варьироваться от не вполне определенного там до прямых указаний на устремленную вниз пространственную вертикаль. В. Н. Топоров в связи с этим упоминает в названной работе имена Баратынского, Тютчева. В другой статье – «Младой певец и быстротечное время» – он говорит о близости данной темы, в связи с особым преломлением мотива смерти, раннему Пушкину, Андрею Тургеневу, Дельвигу, Владимиру Ф. Раевскому и другим поэтам. Бездна как знак, так или иначе, темпорально или топологически, сопрягаемый с иным миром или с рубежом миров, не раз упоминается и в творчестве Пушкина, причем начиная с 20-х годов связанный с ней образный тезаурус у него постепенно расширяется и усложняется.
Именно поэтому в заголовок вынесено не семиотически сильное и в силу этого более или менее определенное в своем значении слово «бездна», а более размытое, даже способное ввести в заблуждение слово «край». И впрямь, если бы в подзаголовке не шла речь о границе, можно было бы подумать, что нас будет интересовать край как некий географический локус: «Кавказа дальний край…», «Кто видел край, где роскошью природы…», «Холмы Тавриды, край прелестный…» и т. п. На самом же деле нас интересует край как обобщенное обозначение границ, о разновидностях далее и пойдет речь.
Первый и очень важный вопрос, возникающий у всякого, кто задумывается о характере звучания данной темы у Пушкина, видимо, такой: насколько остро поэт чувствует любую границу, где и с какой степенью рельефности проведены межи в его картине мира. В критике, особенно начала ХХ века, и в последующем литературоведении широко распространено мнение о цельности пушкинской модели бытия, нашедшей отражение в цельности его творческого контекста, вырастающего, по словам Омри Ронена, из «оттенков параллелизма»[32]. Говоря об этой особенности поэта и его художественного мира, многие авторы выбирают слово «мера» как наиболее точно характеризующее пушкинский принцип мироотношения. В отношении к мере и умеренности как форме выражения ее Пушкин стоит несколько обособленно среди поэтов первого тридцатилетия XIX века. Не поддаваясь магии пушкинских стихов Марины Цветаевой, заметим, что с Грибоедовым, наградившим Молчалина таким качеством, как умеренность, Пушкин бы вряд ли согласился. В «Послании Дельвигу» (1827) он совершенно иначе расставляет знаки и определяет ценности: