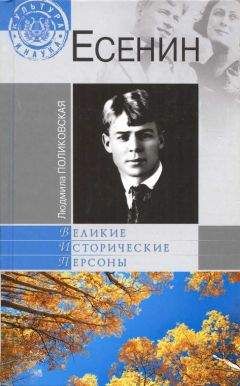Петр Радечко - Реабилитированный Есенин
В его роскошный номер-люкс я и явился прямо с Рязанского вокзала. В левой руке у меня был фибровый чемодан, а в правой – тюк с экземплярами драгоценного “Исхода”, аккуратнейшим образом зашитого в новенькую мешковину.
– Ого!. – воскликнул Боб. – Что это, пензюк, ты припер?
– Книги.
– Какие книги? – спросил он упавшим голосом.
– Альманах.
– Какой альманах?
– “Исход”.
Вынув из чемодана авторский экземпляр на веленевой бумаге, я протянул его Бобу и сказал:
– Эх, темнота, темнота!.. На, читай. Просвещайся.
Он ухмыльнулся:
– Да ты, пензюк, у меня нахал! Одобряю (курсив мой. – П. Р.).
Налюбовавшись нелепой обложкой, стал перелистывать альманашек.
– Значит, пензюк, у тебя в мешке этот же идиотский “Исход”?
– Конечно.
– А я думал, картошка, – сказал он грустно.
И глубоко вздохнул. Дело в том, что у Боба с детства был прекраснейший аппетит…»
После того как «почти народный комиссар» наелся хлебом со сливочным маслом новоиспеченного москвича, он прочитал пензенские стихи своего родственника, обозвал их «этакой ерундистикой» и сразу предложил ему соответствующую работу.
Процитируем опять самого Мариенгофа, чтобы убедиться, как легко это делалось:
«…я тебя сосватаю к дяде Косте. Это его партийная кличка. Он, видишь ли, был первым нашим комендантом Петрограда. Храбр до черта! А теперь дядя Костя заведует издательством ВЦИК. Вот ты и пойдешь к нему на работу. Посоветую сделать тебя литературным секретарем. Дядя Костя – такой храбрец, что, наверно, и стихи твои напечатает.
– Спасибо, Глухомань. Сосватай.
Пережив томительный день, послезавтра я уже сидел за дубовым письменным столом, реквизированным у какого-то действительного статского советника. Большие зеркальные окна издательства ВЦИК выходили на Тверскую, близ Моховой. Так как я был поэт, дядя Костя распорядился посадить меня у окна, сказав при этом: “Пусть любуется на нашу революционную жизнь и пишет о ней стихи”. Я действительно все служебное время либо этой жизнью любовался, либо “творил”».
И, правда, хорошая работа! Вдохновляющая. Тем более, когда и живешь не на чердаке, как Есенин. Впрочем, процитируем еще раз этого пензюка, но уже из «Романа без вранья» (Как жил Есенин: мемуарная проза. Челябинск,1991. С. 33):
«Первые недели я жил в Москве у своего двоюродного брата Бориса (по-семейному Боб) во 2-м Доме Советов (гост. “Метрополь”) и был преисполнен необычайной гордости.
Еще бы: при входе на панели матрос с винтовкой, за столиком в вестибюле выдает пропуска красногвардеец с браунингом, отбирают пропуска два красноармейца с пулеметными лентами через плечо. Красноармейцы похожи на буров, а гостиница первого разряда на таинственный Трансвааль. Должен сознаться, что я даже был несколько огорчен, когда чай в номер внесло мирное существо в белом кружевном фартучке».
Рассказом о своем житье и работе Мариенгоф дал Есенину богатую пищу для размышлений: стихи пензюка, конечно же, абсолютно бездарные. Но такому выскочке сказать это в лицо не хочется. Как-то само вырвалось слово «лихо!» Вот и пусть понимает, как хочет. И «творит» дальше. Ведь все равно никакой другой работой его не загружают. Хвалит мои стихи. Образы в них нравятся. Но их многие хвалят, а что толку? Живу, как бездомный. Да того и гляди арестуют, а то и расстреляют за дружбу с Леней Каннегисером. Или в армию забреют. Мариенгофа, небось, не мобилизуют, хотя вокруг всех гребут подряд. Пробиться на страницы газет и журналов трудно стало. Те, где это легко было сделать, закрыты. Да и посидеть, поработать негде.
И как все-таки он чем-то похож на Каннегисера! Но не скажешь ведь ему об этом. И никому – тоже. А при таком его родственнике, если вдруг «загребут» в ЧК, заступиться сможет. Говорит, что с Бухариным в первый же вечер по приезде в Москву познакомился. И не без участия того сюда на работу устроили. Пожалуй, если с таким дружить, смелее вести себя можно. Да вот еще и про издание сборника стихов разных поэтов говорит. Почему бы и мне не поучаствовать? Что я теряю? И популярности не поубавится, и гонорар заработаю…
При следующей встрече Есенина с Мариенгофом они вместе зашли к Константину Еремееву. И вот как об этом новый знакомый рассказывает в «Романе с друзьями»:
«Значится… (Константин Степанович говорил “значится” вместо “значит”). Значится, объявляйте, Анатолий, великий набор. – И запыхтел трубкой. – Набор своих башибузуков.
И еще подымил.
– Я, значится, ребята, решил издать сборником ваш рык.
Несколько позже я предложил назвать этот рык “Явью”.
– Согласен! – сказал Константин Степанович…»
Потом в разговоре с Есениным Мариенгоф высказал свое пожелание опубликовать в сборнике в первую очередь стихи тех авторов, которые пишут образно, с большим количеством “имажей”, как выразился он. Расспрашивал о поэтах – «образниках», высказал пожелание познакомиться с ними лично. Спрашивал совета, не организовать ли им свою литературную группу, в которую могли бы объединиться такие поэты.
Есенин прекрасно понимал, что такие идеи не могли сами по себе прийти в голову этого юного барчука. Даже при всей его амбициозности. Ведь «это юное дарование» еще не опубликовало ни одного стихотворения в московской прессе, а уже сразу ведет разговор о выпуске сборника стихов, создания своей поэтической группы. Безусловно, все это исходит от его больших покровителей во властных кабинетах. Но здесь желания Есенина и Мариенгофа во многом совпали.
Есенина-полусироту воспитала улица. В деревне с утра до ночи он находился в кругу сельских мальчишек, затевая всевозможные игры, выполняя ту или иную работу или присматривая за сестренкой Катей. Затем учеба вдали от дома, в Спас-Клепиковской учительской школе. И везде он был окружен друзьями. По своему характеру он не являлся домоседом. К тому же сейчас у Сергея не было никакого угла, где он мог бы уединиться.
Потому у Есенина вполне естественным было желание объединиться с друзьями в какую-нибудь группу, выживать в которой легче. И печататься, и создавать себе имя, организовывая вечера-встречи с читателями. Немного ранее он пытался объединить вокруг себя группу крестьянских поэтов в составе Сергея Клычкова, Петра Орешина, Алексея Ганина и др. Однако в революционном Пролеткульте эту инициативу решительно отвергли.
Низко кланяться властям Есенин никогда не собирался. Даже в 1916 году, когда ему, военному санитару, перед встречей с императрицей полковник Ломан предлагал написать подборку верноподданнических стихотворений. Но и становиться в позу при теперешнем положении в России тоже не хотелось. К тому же это было просто опасно.
В царские времена рисковать он ничем не мог, кроме своей репутации. Сейчас же вполне мог лишиться головы.
И опять вспоминается абсолютно беспринципный и переменчивый, как флюгер, Демьян Бедный. В свое время тот писал:
Звучит моя лира,
Я песни слагаю
Апостолу мира
Царю Николаю!
А теперь, пораженный болезнью кровавой эпохи, лакейничает у новоявленных вождей. Своими агитками разжигает классовую вражду, насмехается над историей России, ее народом, православием. Поселился в Кремле и, наверное, считает, что совесть его чиста.
У Есенина она именно чиста. И потому у него нет ни кола, ни двора. Сам по чердакам в Москве скитается, а жена с маленькой дочуркой в Орле, в ее родительском доме. И никаких перспектив. А отец с двенадцати лет в мясной лавке у купца работал, и почти все время жил в многолюдной «холостяцкой» комнате. Да вот голод навалился, что и торговать нечем. Пришлось ни с чем уехать домой в деревню. А сыну пока что и до «холостяцкой» комнаты дослужиться не удается. Зато честен. И опять вспоминается пословица, недавно услышанная во время поездки в родное Константиново: «Честен бык, так он сеном сыт».
В то время в России существовало несколько поэтических групп. Символисты, акмеисты, ничевоки… Но самой сильной из них была группа футуристов. Благодаря тому что в нее входили талантливые поэты Велимир Хлебников, Владимир Маяковский и Василий Каменский. Революционного задора у них было еще предостаточно, и они пытались завладеть умами всей читающей публики, для чего нередко устраивали литературные вечера. Стреножив введением жесткой цензуры литераторов старой школы, большевистское правительство поставило их перед убийственной дилеммой – или принимать, подобно Демьяну, новую власть, воспевая кровавую бойню во имя светлого будущего, или, чтобы не умереть с голоду, уехать за границу.
Футуристов правительству с помощью вездесущего наркома по просвещению Анатолия Луначарского все больше и больше удавалось подмять под себя. Но оставалась еще значительная часть молодых литераторов, которые видели в футуризме чуждое народу, заумное течение, и о сотрудничестве с ним даже не помышляли. А оставлять их вне своего поля зрения большевикам не хотелось.