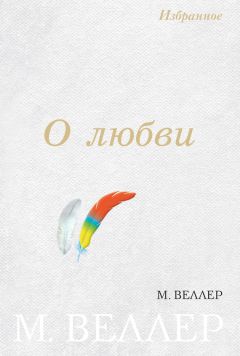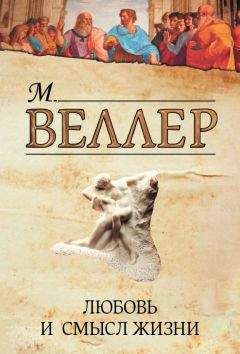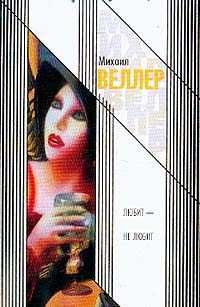Александр Михайлов - Избранное. Завершение риторической эпохи
В противоположность таким, — скорее, северогерманским немецким текстам, как роман Морица «Антон Райзер», — Лафатер как автор дневника обнаруживает поразительную самоудовлетворенность; так, 4 июня 1773 года он записывает: «Очень важный день […]. Если бы я рассказал все то хорошее, что сделал я сегодня, и только это, меня сочли бы святым; и все-таки совесть сказала бы мне, что я поступал больше механически, нежели чувствительно; а если бы я поведал все слабости и ошибки, допущенные мною сегодня, и только их, меня сочли бы лицемером и безбожником; и все же совесть сказала бы мне, что я ни лицемер, ни святой. Однако сегодняшний день я считаю добрым, благословенным днем моей жизни. С утра до вечера постоянно иметь возможность — и пользоваться ею — быть полезным, и доставлять удовольствие, и быть поучаемым и получающим удовольствие — это я не могу назвать дурным днем […]». В другом месте у Лафатера сказано так (28 февраля 1773 года): «[…] память обо всем творимом мною добре, — смею сказать, что не проходит и дня, когда бы Провидение Господне не предоставляло мне к тому случая, — ни в малейшей мере не раздувает моего самомнения […]. Сравнивая себя с другими […] ничто не заставляет меня возгордиться; потому что в силу постоянного наблюдения самого себя, ставшего для меня второй натурой, я каждый день замечаю столько слабостей, ран, недостатков и хилостей моего сердца, что надо было бы обезуметь, чтобы возгордиться. Чем больше добра в сердце, тем легче мне уничижаться». Далее Лафатер — автор дневника — признается, что не настолько малодушен и, невзирая на свои таланты, нередко предается «волшебным фантазиям тщеславия».
В целом дневник Лафатера полон весьма положительного отношения к себе и, конечно, к своей риторической учености. В отличие от первого дневника издания Цолликофера второй дневник воспринимается больше как монтаж всевозможного рода записей — самых разных по жанру и назначению. Среди таких попадаются и записи шифрованные, занимающие строку или даже целый абзац; подавляющее большинство их расшифровано уже в XX веке, и, разумеется, в них не содержится ничего «тайного», — однако такие записи придают дневнику сразу же и видимость «тайны», и видимость полноты, — не выпущено ведь ничего, не изъяты ведь даже и нечитаемые части, — лучший довод в пользу чистосердечности дневника.
При всей разнохарактерности дневниковых текстов (среди них и стихотворения, и копии писем) автор главным образом руководствовался, видимо, своей общей устремленностью к тому, что можно было бы назвать магико-физиогномическим познанием. Вот одно из ее выражений (29 апреля 1773 года): «Слово есть тело духа. Любой жизненный дух мы воспринимаем не иначе, как в некоей телесности. Все есть тело и дух»[37]. Такую познавательную установку можно характеризовать и как общесемиотическую — коль скоро ведь речь идет о всюду наличествующем в мире соотношении внешнего и внутреннего, телесного и духовного, смысла и его субстрата. При этом все внутреннее и все внешнее представляются как поначалу разделенные между собой, но затем как приводимые в необходимую, неразрывную связь и образующие сопряженность почти таинственно-магического свойства. Настоящая задача — это постижение внутреннего смысла, однако для этого должны быть тщательно изучены прежде всего знаки внешнего. Слово «семиотика» действительно оказывается весьма близким для такой мысли, — так, вслед за Г.К.Лихтенбергом Лафатер говорит о «семиотике аффектов»[38]. Но теоретического и систематического развития эти начала не получают: Лафатер довольствуется тем, что снова и снова вторгается в эту область, — отсюда заявленная самим автором фрагментарность изложения и бесконечная эмпирика наблюдений над лицами, черепами, телами, — во всем этом сосредоточивается для него, при изучении личностно-внутреннего, душевного, вся живая связанность раздельного.
Подобно тому как «физиогномическая» тема присутствует в дневниках, так одна из затаенных дневниковых тем звучит в «Физиогномических фрагментах». Ее можно формулировать так: как прорваться к естественности человеческого? А в понятиях физиогномики этот же вопрос следовало бы, вероятно, переформулировать так: как чтение внешних знаков сделать простым и однозначным — естественным? В «Физиогномических фрагментах» Лафатер пишет: «Кто способен писать, как думает? как чувствует? О, как тяжело тому, кто видит и чувствует и кто желает, чтобы и другие видели и чувствовали? […] И когда же ему писать, чтобы писать не как писатель, а как человек, чтобы писать не для публики, а для людей? Чтобы ударить по самым сокровенным струнам человечества? Чтобы продолжать воздействовать через весь род человеческий, через века, через все бури коллег-писателей, через все потоки людского вкуса — на все, что только ни называется человек? На каждую еще открытую, еще обнаженную сторону человечества? Как? когда? В такой век, когда все — писатель, читатель, ученость, искусство, когда так мало природы, так мало чистой человечности, так мало чистого интереса к истине, так мало жажды свободы, когда все искусно одевается и украшается, когда никто не замечает, что даже и самое прекрасное и со вкусом сшитое платье — это лишь памятник упадка и ярмо, под каким чахнет дитя природы, и в лучшие часы своей жизни готовое проливать горючие слезы. Так как же писать и когда?»[39]
По логике вещей, какой не мог избегнуть Лафатер, и эти восклицания — мечты об обретении новой естественности, созвучные руссоистским настроениям, — обязаны обращаться в риторический момент, в элемент риторической тактики автора. И в этом отрывке вновь неприглушенно звучит тщеславный мотив личного призвания, личной славы: обретение естественности как цель физиогномического знания и как личная задача его новооткрывателя.
Колоссальная постройка четырех громадных томов «Физиогномических фрагментов» с сотнями гравюрных листов и массой виньеток не скрывает своей смысловой и формальной незавершенности — все это по-прежнему штудии и материалы, — однако в то же самое время являют и черты искусного, продуманного построения. Вычленение больших разделов — таков, например, занимающий большую часть второго тома раздел о черепахах и головах животных, об отдельных членах человеческого тела — в третьем томе, о частях лица, о национальных и семейных физиономиях, о темпераментах — в четвертом томе и другие — вычленение больших разделов сочетается с полифоническим ведением разных тем, причем при самом различном их сочетании. Так, уже в разделе о животных параллельно проводится и «человеческая» тема: выстраивается в некое подобие системы параллелизм лиц и морд животных (как таковой, тоже восходящий к глубокой древности). Далее, общетеоретические разделы перемежаются с разделами практического свойства, что особенно наглядно проявляется в томе первом; здесь фрагменты IX и XVII — это практикум, и эти два фрагмента занимают в общей сложности больше места, чем остальные 16. Затем в книге перемежаются тексты, различающиеся по тону и стилю. К примеру, тексты гимнического характера появляются во всем корпусе текстов с достаточной регулярностью и притом на заранее предсказуемых местах; во втором томе подраздел о «слабых, глупых людях» завершается неожиданным гимническим обращением к Богу, и, конечно же, это замечательно оформленная отдельная ячейка книжной конструкции, занимающая три полосы; том первый весьма удачно заканчивается лирическим стихотворением Гёте — «Письмо рисо-вальщика-физиогномиста»[40]. При взгляде на конструкцию обширного целого оказывается, что все такого рода лирические фрагменты-отступления в прозе и изредка в стихах не столь уж неожиданны, — они, в таком собрании разноречивых, «разнотоновых» текстов с необходимостью маркируют один стилистический фланг всего этого как бы чрезмерного целого и, по всей вероятности, обнаруживают черты сходства со всякой подобной текстовой, книжной гиперконструкцией, когда таковая по каким-либо причинам осуществляется европейской культурой. К этому же построению целого относится и множество дополнений, приложений и приписок, — следовательно, элемент возвращения назад, к уже намеченным темам или же элемент кружения на месте. Общетеоретические темы при этом тоже постоянно возобновляются. Уже даже и самый первый том начинается, после посвящения, с предисловия, за которым тут же следует дополнение к предисловию. Однако даже и после такого дополнения все еще не наступает черед самих «фрагментов», следует введение «Достоинство человеческой личности», и оно существенно необходимо, потому что превосходно определяет моральный лейтмотив всего лафатеровского замысла — это вера «в достоинство и богоподобие человеческой натуры»[41]. И в этом случае, разумеется, нравственная сторона замысла и поэтика текстовой и книжной конструкции мыслятся одновременно и нераздельно друг от друга, — Лафатер напряженно мыслит свою форму целого — такого целого, какое можно крупно-масштабно строить из фрагментов как конструктивных единств, как мыслительного, так и текстового, книжного построения.