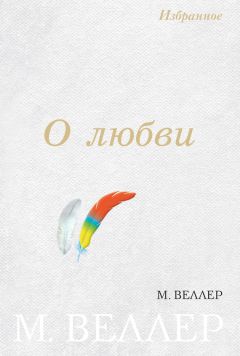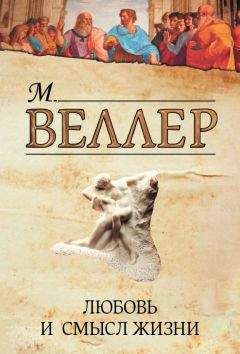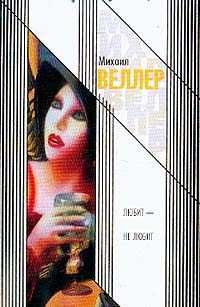Александр Михайлов - Избранное. Завершение риторической эпохи
Кроме стороны естественнонаучно-философской тут отразилась и сторона эстетическая: после того как в 1770-е годы Лафатер и Гёте встретились на почве общей, объединившей их деятельности, в конце 1780-х годов Гёте, отрекаясь от своих штюрмерских лет с их невоздержанностью и обогатившись опытом итальянского путешествия 1786–1788 годов, стремительно вырабатывал идею автономного, замкнутого в себе произведения искусства, — поступая подобно философу И. Канту и замечательному берлинскому литератору Карлу Филиппу Морицу (1756–1793), собеседнику его римских дней, вскоре издавшему трактат «О пластическом подражании прекрасному» (1788). И трактат Морица, и все гётевское движение мысли подводили итог того могучего тяготения немецкой культуры в стороны новопостигаемой античности, начало которого было связано и с именем Й.Й.Винкельмана (его «История искусства древности», 1764), и, не менее того, с гомеровской задачей немецкой культуры и деятельностью швейцарских теоретиков Бодмера и Брейтингера. Сами швейцарцы не были совсем не затронуты импульсами обновленного классицизма Винкельмана, однако его воздействие на них было косвенным и ослабленным. Швейцария, цюрихская эстетика чудесного и воображения, теория образа оставались — в отличие от строгой винкельмановской ориентации на пластически-обозримое творение искусства — эстетикой стихийно-поэтического, эстетикой живописующего и графически раскрывающегося слова, отчего так и недоставало ей воли к созданию чего-либо законченного, отто-ченно совершенного. Тем более Лафатер с его жаждой проповедовать и учить, с его готовностью подчинять творчество религиозной первозадаче, продолжал, в общих чертах, придерживаться той же эстетики стихийно вспыхивающих поэтических образов-картин, и тут оказалось, что между ним и Гёте внезапно пролегла глубокая пропасть — их вдруг разделил громадный и новый эстетический опыт, вовсе не доступный Лафатеру. Итак, уже чисто эстетически и чисто художественно как писатели они разошлись в такую даль — уже в 1780-е годы, — что, скорее, курьезом может выглядеть сам факт личного знакомства столь чуждых и столь несоединимых друг с другом творческих личностей, а тем более несомненный факт их плодотворной совместной деятельности. Расхождения в дальнейшем лишь возрастали, выходя из области только эстетического: когда позже Гёте неустанно повторяет: «Нет ни внутреннего, ни внешнего», «Что внутри, то и снаружи»[29], то он исходит из такого видения и уразумения целого, какие сразу же перечеркивают лафатеровский физиогномический принцип с его разделением и сопряжением внешнего и внутреннего. Такое гётевское мышление целого подкрепляется у него сразу же и эстетически (автономное произведение искусства), и биологически (организм), и философски (платоновская идея), и Гёте согласен брать на себя все связанные с мышлением такого целого (где нет раздельных внутреннего и внешнего) противоречия. За два десятилетия Лафатер ни на шаг не продвинулся вперед, — что не может послужить ему укором, — и, например, как автор «Видов в вечность», он по-прежнему представляет ту же бодмеровско-брейтингеровскую эстетику и поэтологию, правда, без особого интереса к собственно литературно-теоретической стороне дела. Известная поэтическая небрежность — или же привычка к скорописи — уже по той причине, что поэзия создается не ради поэзии, но ради поучения, вбирающего в себя у Лафатера и всякое удовольствие и наслаждение, — находит для себя оправдание в этой же самой традиции; казалось, что возвышенная тема с избытком восполняет любые недочеты поэтического стиля, слога «дикции» и любое несовершенство поэтической конструкции.
Эстетический взгляд вполне гармонировал тут с лафатеровской антропологией: если сам человек есть несовершенная репрезентация своего конечного совершенства, — то же самое и творения человека: они репрезентируют свою же идеальность, совершенство провозглашенного, но, разумеется, недоступного идеала.
В годы отчуждения от него его бывшего друга Гёте, Лафатера занесло в область магии, чудес, тайнодействий, новооткрытого животного магнетизма и т. д. По стечению обстоятельств на это же время приходится и создание большей части его поэтических произведений: в 1776 году он пишет драму «Авраам и Исаак», — естественно, «религиозную» и, естественно, никогда не ставившуюся в театре (о чем мечтал автор); в 1780 году публикуется его эпическая поэма «Иисус-Мессия, или Пришествие Господа» в 24-х песнях — очередной скороспелый швейцарский ответ Клопштоку на его прославленного «Мессию», ответ гекзаметрами и на сей раз (вопреки Клопштоку с его поэтикой) в полном соответствии с «Откровением святого Иоанна», без всяких домыслов и поэтических вольностей. Затем последовала эпическая поэма «Понтий Пилат» в 4-х томах (1782–1785) с подзаголовком «Библия в малом, человек в великом», а в 1786 году «Нафанаил». Наконец, в 1794 году вышел «Иосиф Ари-мафейский». Все эти библейские творения Лафатера находились в единстве с тем, что он сам называл «экспериментом» и в чем испытывал глубочайшую потребность. Вот в чем было тут дело: Лафатер как глубоко верующий человек, каким он, видимо, с полным правом, себя считал, одновременно полагал, что верующий человек должен добиваться самого ясного удостоверения своей веры: «Веровать в истину и желать испытывать ее — это одно и то же. Кто не ставит экспериментов, тот пусть молчит о любви к Истине»[30]. Пожалуй, своим желанием знаков, знамений, чудес Лафатер ставил себя в положение новозаветных фарисеев, требовавших от Иисуса знамений. Создание же эпических поэм вызывалось настоятельной необходимостью приблизить к чувству давнюю реальность земной жизни Спасителя. Согласно мистически-магическим верованиям копенгагенского кружка, сам Лафатер, в одном из прежних своих перевоплощений был Иосифом Аримафейским, что снял тело Христово с крестного древа (Евангелие от Луки, 23: 51–53), и Лафатеру эти верования были известны, — нетрудно вообразить себе, сколь велик был в этих слоях мечтателей — одновременно фанатиков и сентименталистов — отход от самых основ христианской веры.
О том же, сколь далек был Лафатер даже от творческих установок Клопштока, прямо связанного с швейцарской эстетикой генетическим родством, следует из такого его замечания в дневнике: «[…] я еще раз перечел беседу о стихотворных размерах в начале четвертого тома “Мессиады” не без глубокого возмущения тем обстоятельством, что величайший поэт угощает читателей “Мессиады”, из которых едва ли один из тысячи разумеет что-либо в просодии, своими версификаторскими утонченностями […] сама тема показалась мне столь смехотворной и малозначительной, как если бы Рафаэль пожелал приписать к своему “Преображению” парочку рецептов растирания красок […]». И действительно — почему надо помещать рассуждения о версификации в одну книгу с религиозной поэмой? Для подавляющего большинства поэтов той эпохи ответ разумелся сам собою: именно важность темы обусловливала первоочередное внимание к средствам поэтического выражения, к поэтической технике, и одно, религиозный сюжет, неразрывно связывался с другим, с техникой и ее проблемами: освоиться с техникой значило бы освоиться и с сюжетом, и темой. Тут ощутим и некоторый зазор — именно поэтому поэту приходится «бороться» за свою «античную» технику стиха, перенос которой в условия нового языка отчаянно не прост. По Лафатеру же, задумываться о метрике как бы грешно, — однако здесь же коренится и малоудовлетворительный итог его поэтических начинаний. По Лессингу, «Мессию» Клопштока читали меньше, чем надо. Поэмы Лафатера оставались нечитанными вовсе.
Поездка в Германию в 1786 году, закончившаяся столь прохладным приемом у Гёте в Веймаре, привела Лафатера сначала в Гёттинген, а затем и Бремен. Слава Лафатера в то время была настолько велика, что в Бремене его встречали с неподдельным энтузиазмом, и толпы сбегались слушать его проповеди в трех городских соборах — Святого Стефана, Святого Ансгария и Святого Мартина. Во втором из названных соборов очень желали видеть Лафатера третьим пастором, на что Лафатер, однако, не согласился; в том же году Лафатера стали обвинять в распространении лженаучной теории (животного магнетизма), и берлинские просветители, Ф. Николаи и Й.Э.Бистер, сделавшись заклятыми врагами Лафатера, печатали против него резкие критические статьи. Всеми этими распрями, в которых звучали и взаимные обвинения богословского толка, настроение общества было настолько накалено, что, по свидетельству поэта Фридриха Маттесона, когда он гулял по цюрихской площади — действие происходило в 1787 году — в компании Лафатера и Ф. А. Месмера (родоначальника теории животного магнетизма), то на них пялили глаза изо всех окон, смеясь, так что кроткому швейцарскому поэту оставалось только краснеть за Месмера.