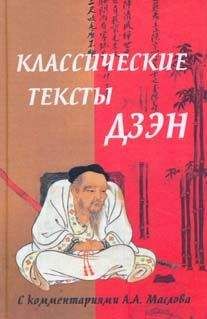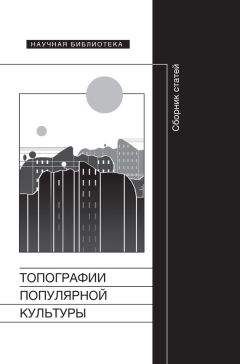А. Белоусов - Геопанорама русской культуры: Провинция и ее локальные тексты
Даль В.: 1979, Толковый словарь живого великорусского языка, Москва,
т. 2.
Дмитриев И. И.: 1986,Сочинения, Сост. коммент. A.M. Пескова,И.3. Сурат, Москва.
Зеленин Д. К.: 1995, Очерки русской мифологии: умершие неестественной смертью ирусалки, Москва.
Ильф И., Петров Е.: 2000, Двенадцать стульев, Первый полный вариант романа с коммент. М. Одесского, Д. Фельдмана, Москва.
Костомаров Н. И.: 1994, Бунт Стеньки Разина: Исторические монографии и исследования, Москва.
Кузмин М.: 1994, Театр, Сост. А. Г. Тимофеев, Berkeley, кн. 1.
Лотман Ю. М.: 1997,'Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Коммент.
Лотман Ю. М., Пушкин, С. – Петербург.
Некрылова А. Ф., Саввушкина Н. И.: 1988, Фольклорный театр, Вступ. ст., коммент. А. Ф. Некрыловой и Н. И. Саввушкиной, Москва.
ПВЛ – Повесть временных лет, Подготовка текста, ст. и коммент. Д. С. Лихачева, С. – Петербург, 1996.
Пропп В. Я.: 1986, Исторические корни волшебной сказки, Ленинград.
Пушкин А. С: 1948, Полное собрание сочинений, Москва – Ленинград, 1948, т. 3.
Розанов В. В.: 1990, Сумерки просвещения, Сост. В. Н. Щербаков, Москва.
СМ – Славянская мифология: Энциклопедический словарь, Москва, 1995.
Соколова В. К.: 1970, Русские исторические предания, Москва. Сологуб Ф.: 1997, Собрание сочинений, Москва, т. 6. Цявловская Т.: 1974, 'Примечания', Пушкин А. С, Собрание сочинений, Москва, т. 2, 559.
Шкловский В. Б.: 1990, Гамбургский счет: Статьи – воспоминания – эссе (1914–1933), Сост. А. Ю. Галушкина, А. П.Чудакова, Москва. Niederle L.: 1923, Manuel de TAntiquite Slave, 1.1: L'Histoire, Paris.
Е. В. Милюкова (Москва)
«Около железа и огня»: картина мира в текстах самодеятельной поэзии южного Урала
В советскую эпоху (особенно в период с середины 1950-х годов) литературное творчество непрофессиональных авторов – так называемая «рабочая поэзия» – обретает для южно-уральского индустриального города значение важнейшей формы рефлексии и интерпретации собственного социо-культурного опыта. Выражение «рабочий поэт», несмотря на ощутимый дискриминационный оттенок и свою терминологическую непроясненность («Кто это придумал такое: рабочий поэт? Это как – по совместительству?»[304] – задается вопросом многотиражка ЧТЗ), было привычным в заводском обиходе и в городском культурном обиходе в целом.
Один из таких поэтов, осмысливая истоки и цикл собственной судьбы, писал:
Я начинаюсь от завода,
С его судьбой судьбу свою
Связал я. Трудная работа
Идет сквозь молодость мою.
Здесь строго ценят
Хлеб и слово,
Друг друга ценят по труду,
Как много лет назад,
Я снова
В кузнечный слесарем иду…
(Горбатовский 1973)
Или о том же другой автор:
Может, потому точу детали,
Губы от внимания сомкнув,
Чтобы научиться на металле
Шлифовать поэзии строку…
(Молоствова 1961,62)
«Они рыли котлованы и лили бетон. Потом стали токарями, слесарями, журналистами. Их личная судьба неразрывно связана с тракторным заводом» (ЛД 1980,163), – пишет Е. Ховив, руководитель наиболее крупного, наряду с «литературным цехом»[305] Магнитки, заводского литобъединения. Свои «литбригады» существовали также и в Златоусте, и на Челябинском металлургическом, и на станкостроительном, и на других заводах Южного Урала.
Завод и цех естественным образом оказываются в центре поэтического творчества самодеятельных поэтов, образуя его тематическую доминанту и одновременно вводя в фокус слагающих ее компонентов еще несколько: в частности, металл[306], в рассматриваемом круге текстов обретающий значение традиционной почвенной константы, «железной» уральской земли:
Земля железная, стальная
Лежит, звенеть не уставая,
Дохнул кузнец седой – Урал —
И холодом ее сковал…
(Соложенкина 1977,215)
«Металл», как известно, рифмуется с «Урал». Это такая же неразлучная рифма, как пресловутые «розы: морозы» или «кровь: любовь», – справедливо замечает один из челябинских литераторов (см.: Шишов 1975,326):
<...> Планета моя,
Ты зовешься Уралом.
Тебя я узнаю по звону металла…
(Тюричев 1983,100)
Или:
Урала не узнаешь за неделю
Не сразу можно полюбить Урал
С его огнем мороза и метелью,
С его цехами, где гремит металл.
(Кутов 1954,35)
«Страной железа» входит это пространство и в текст лауреата литературной премии ЧТЗ поэта Михаила Львова, провоцируя одновременно продвижение в круг доминантной семантики таких понятий, как дом и огонь:
Урал, Урал… Заводы… Шахты… Горы…
Страной железа видишься ты мне.
Твои сыны, литейщики, шахтеры,
Себя как дома чувствуют в огне…
(Львов 1977,148)
Железо, огонь и дом (NB!: огонь «как» дом) выстраиваются в ряд смысл о образующих для данного локуса «почвенных» компонентов, значение которых пронизывает все элементы проявленной в рассматриваемом круге текстов картины мира, включая самого человека («<…> с рождения металлом окруженный, уралец – прирожденный металлист <…>»; Львов 1977,148) и пространство его существования:
Сталь в печах клокочет, как живая,
По валкам прокат идет, звеня.
На Урале все мы проживаем,
Около железа и огня.
(А. Куницын, Сталь в печах…, цит. по: Маршалов 1986,244)
Однако традиционно характеризующие сферу человеческой жизни понятия – дом, печь, огонь, – попадая в семантическое поле рифмы Урал: металл, обретают несколько отличное от традиционного содержание: патриархальная фундаментальность их смысла утрачивает свою актуальность, и «в рамках» указанной рифмы начинает формироваться иное сознание:
Индустрия – вечный мой город,
Я сам – твой строитель и брат,
Твоим деревенским Егором
Был словно б столетье назад —
пишет магнитогорец Борис Ручьев (1977,145). Отказ от патриархально-почвенной {деревенской) принадлежности происходит посредством введения категории условно-патриархального времени («словно б столетье назад»), призванного обеспечить положительную мотивацию актуализируемой текстом «вечной» реальности индустриального города как реальности забвения, что позволяет подготовить замещение прежних смысловых доминант новыми, как это и происходит в тексте другого автора, Владимира Шахматова:
А я, когда решить настало —
Тесна крестьянская изба, —
Отдал себя во власть металла,
Мне цех мартеновский – Судьба.
Рифма Урал: металл, таким образом, вытесняет прежнюю – изба: судьба, – становясь метафорическим обрамлением «судьбы» целого поколения выходцев из «крестьянской избы», ввергнутого во власть металла:
Поклонясь деревенской избе,
Где нужды пережито немало,
Я ушел из тамбовских степей
Под железное пламя Урала, —
говорит монтажник коксохимического цеха Челябинского металлургического завода Вячеслав Богданов (1997, 104), сумевший поэтически осмыслить пространственное значение Урала в том числе как навечно обозначенной железной границы исторических поколений. В одном из стихотворений, возникающем в связи с посещением деревенского кладбища, он пишет:
Я здесь один.
И, слезы не тая,
Все обхожу могилы по порядку.
Вот спит мой дед,
Ему с Урала я
Навек привез
Железную оградку.
(Богданов 1997,264)
«Похороненное» – отчужденное от традиции – представление о доме, бывшем некогда центром и смыслом жизни, в указанном круге текстов редуцируется до землянки, времянки, вахтовки, палатки, вагончика, бытовки, барака, теплушки и т. п.[307] «Обездомленный» мир выглядит голым («Мы возводили мир на голом месте»; Садыков 1977,46) и пустым:
Дружно рыли мы котлованы,
Возводили крутые мосты.
Выходили на смену рано,
Сотрясая песней пустырь.
(Куштум 1977,109)
«Пустырь» (а не дом) предстает, таким образом, зияющим центром рассматриваемой картины мира.
Компенсацией отрицательного значения этой новой доминанты становится факт замещения понятия дом понятием завод (цех), принимающим на себя центрообразующую функцию и окончательно вытесняющим «на задворки» не вписывающиеся в его «железные» пределы и потому исчезающие знаки патриархальной жизни:
Как странно видеть
На задворках цеха
Лошадку в незатейливых доспехах,
На щиколотках – грязные бинты…
(Садыков 1977,57)
Процесс вытеснения патриархальной доминанты на периферию жизни приводит к формированию новой модели жизненного пространства, отрефлексированной уже в качестве типологически городской:
…Как много их, подобных городков!
У них исконно русские названья,
И в центре – пенье заводских гудков,
А на окраинах – коров мычанье.
(Федотова 1974)
В новой ценностной иерархии (с заводом «в центре»[308]) пространственные оппозиты центр – окраина меняют свое значение на противоположное, в результате чего цеховые «задворки» становятся контекстуальным оксюмороном, получая возможность игнорировать собственную мизерабельность: