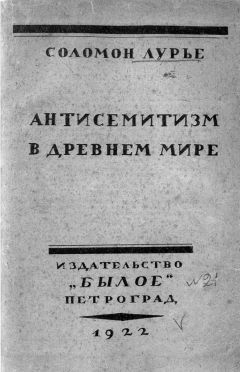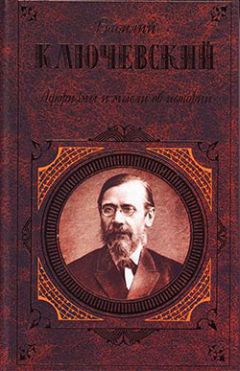Евгений Добренко - Политэкономия соцреализма
Весь потенциал советского «монетарного дискурса» направлен на инструментализацию денег, на лишение их каких бы то ни было идеологических, а тем более морально–этических коннотаций. Это особенно видно в трактовке стимулов к труду. К ним теперь относятся: «великая идея марксизма–ленинизма о построении коммунизма в нашей стране […] любовь трудящихся к своей социалистической родине […] великие задачи, которые намечаются коммунистической партией и правительством в планах развития народного хозяйства и подъема материального и культурного уровня народа». Благодаря «этим новым общественным стимулам труд […] становится для многих миллионов советских людей жизненной потребностью и приносит советским людям огромное моральное удовлетворение»[789].
В силу, надо полагать, своей денежной природы к стимулам и мотивам труда не относится самый очевидный – заработная плата. Она и описывается в тех же нейтральных (не возвышенных!) категориях, в которых описываются и сами деньги: «Заработная плата в руках советского планирующего государства является важнейшим рычагом осуществления строжайшего учета и контроля над мерой труда и мерой потребления, рационального распределения рабочей силы, повышения производительности труда и непрерывного роста благосостояния трудящихся»[790]. В пьесе Александра Корнейчука «Макар Дубрава» между девушками с молодыми людьми происходит следующий разговор:
«Галя. Нам надоело слушать как вы хвастаетесь своими заработками.
Гаврила. Переходите на нашу шахту, и вы будете хорошо зарабатывать.
Галя. Нас комсомол прислал сюда поднимать Донбасс, а не искать, где больше платят».
Социализму не нужны деньги потому, что его продукт не имеет меновой стоимости. Он не подлежит обмену не только потому, что это чисто символический продукт, т. е. произведенный соцреализмом артефакт (образ продукта). Социалистическое хозяйство растет не от потребления товаров, но от потребления самого производства в виде его образа и образов товаров. В процессе потребления этого символического производства и производится «социализм». Символическим продуктом социализма является само производство («труд»); символическим продуктом этого производства является «изобилие» («культурная зажиточная жизнь», созданная в соцреализме). Социалистическое производство занято почти исключительно воспроизводством собственного образа. Потребление этого образа предполагает наличие не реального товара, но лишь его символа. Это настоящий перпетуум–мобиле: расширенное производство при социализме происходит от роста образов социалистического производства и его символического продукта в идеологии и соцреалистическом искусстве.
Соцреализм – это машина виртуального потребления. Символическое потребление имеет в своей основе и символический объект. Даже Ленин не мог определить, что является продуктом производства при социализме. Он утверждал, что это определенно не товар (продукт, произведенный для рынка): этот продукт, писал Ленин, «во всяком случае не только товар, уже не товар, перестает быть товаром»[791]. В этой тройной нагнетающей конструкции продукт социалистического производства шаг за шагом «растоваривается», что превращает и самое это производство, и его политэкономию в производство и политэкономию социальных символов. В этом смысле, как заметил Бодрийяр в своей «Критике политической экономии знака», товар – это «не то, что произведено промышленно, но то, что «медиализовано»»[792]. Основным механизмом, предусмотренным в советской системе для подобной медиализации, и являлся соцреализм.
Как известно, в западной традиции частной собственности есть один субъект – полный собственник. В условиях государственной собственности «происходит как бы «расщепление», «разбрасывание» этих отношений на несколько носителей, находящихся в иерархической подчиненности друг другу, причем ни один из них не является полным субъектом собственности»[793]. В результате западная модель зависит от сферы производства, а восточная – от соотношения власти; в последней «сфера производства рассматривается лишь как пассивный источник выколачивания прибавочного продукта, а «главная» деятельность протекает в сфере его распределения»[794]. От переноса акцента из сферы производства в сферу распределения деактуализируется как само производство, так и его продукт. В вертикальных связях принудительного перераспределения отношения людей, по словам Маркса, «не облекаются в костюм общественных отношений, вещей, продуктов труда»[795], но приобретают характер личной зависимости. Вместо равенства субъектов возникает иерархия объектов.
По остроумному замечанию Анатолия Вишневского, плановое хозяйство, утверждавшее конец «анархии производства», привело на самом деле к устранению «анархии потребления»[796], иначе говоря, к замене потребления распределением. Отсюда – характерная особенность советской «сферы потребления», ее почти полное совпадение со сферой распределения: «Госторговля – элемент не рынка, а редистрибуции, своеобразный распределительный механизм, выходящий на «массы»»[797]. Не удивительно поэтому, что «работники наших магазинов торговлей не занимаются. […] Наши магазины осуществляют не торговлю, а распределение»[798]. Распределение между тем должно быть представлено в форме торговли. Не только затем, чтобы симулировать «нормальность» советской экономической системы, но и затем, чтобы камуфлировать реальные механизмы потребления в стране. Все, что так или иначе оказывалось в пространстве власти, подлежало сокрытию. Советская же «торговля» была сферой непосредственного отправления власти, поскольку, как показывают документы, «высшей торговой инстанцией в стране фактически являлось Политбюро ЦК ВКП(б), которое принимало решения, начиная с глобальных вопросов торговой политики и кончая утверждением планов, цен, сроков торговли, ассортимента, открытия новых магазинов и пр.»[799].
Так возникает необходимость в репрезентации через романы и фильмы «потребностей советских людей» и советской «потребительской культуры». Еще вчера, писал в 1933 году в очерке «Дар потребности» Виктор Финк, люди мирились со многим, а сейчас – протестуют, требуют и знают, что имеют на это «право»: «Невидимый, но грандиозный процесс происходит внутри каждого из нас в Советской стране. Потребность в культурном комфорте, сначала бесформенная и неощутимая, зреет и движется в социальной плазме. Она ширится, оформляется, она проникает в отдельного человека, начинает бродить в нем, она распирает его.
И вот они живут и работают, эти вчера бессловесные миллионы, и они жалуются и ругаются, когда видят мало заботы о себе, и они сами горячо берутся за улучшение своих бытовых условий. Они хотят удобных квартир, ботинок на шнурках, грамоты, газет – для чтения, а не для раскурки, мыла, литературы, кинематографа, мятных капель. Им сделалось нужно все, все, – этим людям, которым вчера, казалось, не нужно ровно ничего. […] Нет, это не перерождение людей! Это не перестройка сознания, не введение его в новое русло. Это – первичное потрясение, которое дает человеку культурную потребность как неотъемлемое свойство его природы.
Невиданное зрелище! Оно с библейским величием развертывается на наших глазах. Миллионы людей переходят в некую высшую социальную категорию. Они подняты и возвеличены рождением потребностей. Дар потребности, брошенный на их головы рукой революции, отсекает грань между их бытием вчерашним и сегодняшним, как первый сознательный труд и первые членораздельные звуки положили грань между человекообразной обезьяной и первым человеком»[800].
Эти эпические преобразования в социальных отношениях и якобы вызванные ими изменения в человеческой природе и описываются в соцреализме. К середине 30–х годов литература, кино, живопись овладели этим искусством вполне. В производственном романе эпохи первой пятилетки читатель еще встречал картины тяжелой материальной жизни – ко второй половине 30–х годов жизнь в советских романах стала намного «лучше и веселее», а после войны всякое изображение «трудностей» рассматривалось как отступление от «типичности» и «жизненной правды»; еще в фильмах начала 30–х годов (в «Крестьянах» Ф. Эрмлера, «Окраине» Б. Барнета, «Встречном» Ф. Эрмлера и С. Юткевича и др.) зритель мог идентифицировать «современность» на экране с окружавшей его повседневностью, позже все это было объявлено «очернительством».
Первопроходцем в деле создания этих картин «культурной зажиточной жизни» был в 1933–1935 годах журнал «Наши достижения». В специально посвященной советскому потребителю шестой книжке журнала за 1934 год рассказывалось о том, что теперь люди покупают пижамы, галстуки, костюмы, дорогие часы, велосипеды, фотоаппараты, радиоприемники, и то, что раньше считалось «роскошью», больше ею не считается. Как объясняла Большая советская энциклопедия, «роскошь есть потребление предметов, потребность в которых превышает средний культурный уровень потребностей данного общества. А так как последний (то есть культурный уровень) есть величина переменная, то и роскошь является понятием относительным: с ростом производительных сил предметы роскоши могут стать предметами необходимости».