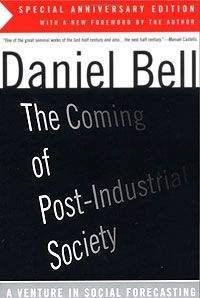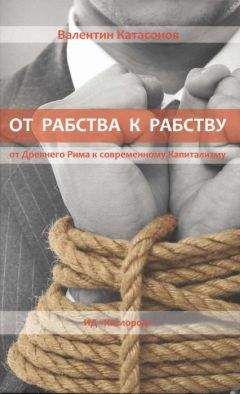Светлана Левит - Культурология: Дайджест №2/2012
Ярко и безжалостно освещенный номер, как известно, имел конкретный адрес: Петербург, Невский проспект, 15, Дом искусств. «Жил он в номере 30, – описывал Ходасевича в Петрограде Виктор Шкловский, – из окон виден Невский проспект. Комната почти круглая, а сам он шаманит. <…> Когда он пишет, его носит сухим и горьким смерчем»40. «Горький смерч», конечно же, отсылает к «плавному вращательному танцу», в который вовлекался интерьер «Баллады». Сравнение с шаманом подсказано героем «Баллады» – поэтом, бормочущим «бессвязные, страстные речи». Сам Ходасевич в комментариях к стихотворению указывал другую более неожиданную и современную аналогию – Ван Гог: «Все время помнил, когда писал, Ван Гога: Биллиардную и Прогулку арестантов, особен. – Биллиардную»41. Круг безысходной жизни, каменный мешок, бесполезные руки, штукатурка, фальшивое солнце – все эти образы действительно будто перенесены в «Балладу» из «Прогулки заключенных». Живопись Ван Гога, несомненно, была для Ходасевича источником экспрессивной образности и питала его воображение. Во многих библейских и литературных реминисценциях Ходасевича можно усмотреть скрытый «ван-гоговский подтекст»: «зерна немое прорастанье», сеятель, «темногустая синь, и в ней <…> незримые, но пламенные звезды»42. В поэзии Ходасевич шел тем же путем, что и великий голландец в живописи: «искал нечто исключительно живое, сильное по цвету, напряжению»43. Мир «Тяжелой лиры» и «Европейской ночи» – прозрачный как стекло, пронзенный токами высокой частоты, готовый в любую минуту покачнуться и прийти в движение – созвучен оглушающей образности, метафизическому натиску Ван Гога. «Биллиардная» (точное название “Ночное кафе”) в письмах Ван Гога получила, например, такой близкий к Ходасевичу комментарий: «В моей картине “Ночное кафе” я пытался показать, что кафе – это место, где можно погибнуть, сойти с ума или совершить преступление. Словом, я пытался <…> воспроизвести атмосферу адского пекла, цвет бледной серы <…> и все это под личиной японской веселости и тартареновского добродушия…»44. Заключительная строка почти в точности совпадает с настроением последнего сборника Ходасевича «Европейская ночь», но еще до того, как Ходасевич запечатлел сумерки Европы, он привнес в русскую поэзию одну из главных тем живописи Ван Гога – человек, вырывающийся из невыносимого дома жизни.
Я сам над собой вырастаю,
Над мертвым встаю бытием,
Стопами в подземное пламя,
В текучие звезды челом. <…>
И в плавный вращательный танец
Вся комната мерно идет,
И кто-то тяжелую лиру
Мне в руки сквозь ветер дает 45.
Все сильнее и сильнее раскручивается вселенский смерч, разрывается замкнутый круг, исчезают постылые стены, и поэт, наконец, видит свой истинный образ: «На гладкие черные скалы/ Стопы опирает Орфей»46. Ходасевич не стесняется сравнивать себя с Орфеем, но вне этого откровения, в житейском зеркале повседневности он продолжает оставаться человеком неприметной наружности: дачник, прохожий, некто на диване с потухшей сигаретой. В стихах 1920-х годов внешность автора нередко совпадает с усредненным портретом его современника-эмигранта – одного из парижских отверженных. Современность вторгается в метафизику, а вернее, сплетается с ней.
«С первой минуты он производил впечатление человека нашего времени, – писала Нина Берберова, – отчасти даже раненного нашим временем – и, может быть, насмерть. <…> Фигура Ходасевича появилась передо мной <…> как бы целиком вписанная в холод и мрак грядущих дней»47. В противоположность многим мемуаристам, Берберова подчеркнула связь Ходасевича не с прошлым, а с будущим. «Ирокезо-фараон» смотрел прямо в «холод и мрак грядущих дней», туда, где у него не будет ни родины, ни города, – только вкус пепла во рту. Метафизика портрета удивительным образом сочеталась с прозаической ролью «человека своего времени», будущего персонажа «Европейской ночи» – нищего, неустроенного, болезненного.
Выбор облика «человека нашего времени» Ходасевич начал с того, что отказался от важной приметы поэта-романтика – многоцветного плаща. В стихотворении «Брента» (1920–1923) поэт увенчан плащом, как тяжелой брезентовой мантией, рубищем походного покроя:
С той поры люблю я, Брента,
Одинокие скитанья,
Частого дождя кропанье
Да на согнутых плечах
Плащ из мокрого брезента 48.
Плащ из мокрого брезента – ироничный намек на не пригодившуюся мантию барда-скитальца, знак прозаичности и тяжести земного пути. «Тяжелый» – одно из ключевых слов в поэтическом словаре Ходасевича, и одеяние поэта соответствует его уделу: весомо и тяжело. Еще одна ироническая параллель, на этот раз между плащом петербургского поэта и дымчатыми крыльями демона, есть в стихотворении «Бельское устье» (1921):
А я росистые поляны
Топчу тяжелым башмаком,
Я петербургские туманы
Таю любовно под плащом 49.
В имении Бельское устье Ходасевич провел два летних месяца 1921 г. Смешная и грустная чепуха советского уклада тех лет описана им в очерке «Поездка в Порхов»50. Для стихотворения «Бельское устье», сочиненного под новый 1922 год, Ходасевич выбрал иную картину: безмятежная сельская жизнь, «песчаный косогор», лес, луг, «об урожае разговор», «ярмарка невест» – ностальгия по «Евгению Онегину». Портрет поэта-дачника на фоне этого мирного уголка блистательно саркастичен: петербургский житель, демон и «сатанический урод» оставляет след тяжелого ботинка в идиллическом пейзаже. В насыщенной библейскими, пушкинскими и историческими реминисценциями «Обезьяне» Ходасевич так же представился дачником. Тем самым он, похоже, упредил чересчур патетичных интерпретаторов: всего-то и было, что изнуренный жарой дачник вынес воду сербу с цирковой обезьяной.
Костюм, выбранный Ходасевичем для большинства стихотворений, лишен экстравагантности, почти обезличен: коричневое пальто, шляпа. За редким исключением в своих стихах Ходасевич одет, как человек толпы – «прохожий, обыватель, господин». Впрочем, и заурядный костюм для Ходасевича часто становился источником потусторонней, демонической образности. Умение из бытовых мелочей высекать метафизическую искру было фирменным знаком его поэзии, и детали собственного портрета не стали для Ходасевича исключением. Описывая долгие ночные прогулки по Берлину, Ходасевич превратил себя, Нину Берберову и Андрея Белого в трех демонов с песьими головами:
Опустошенные,
На перекрестки тьмы,
Как ведьмы, по трое
Тогда выходим мы.
Нечеловечий дух,
Нечеловечья речь –
И песьи головы
Поверх сутулых плеч 51.
Ассоциация с песьей головой была, скорее всего, навеяна длинной тенью человека в цилиндре (или высокой шляпе) – силуэтом человека 1920-х годов.
Пожалуй, один из самых трагических и запоминающихся портретов Ходасевича в эмиграции оставила Нина Берберова. В начале 1930-х годов Ходасевич и Берберова переживали не лучшие времена: Ходасевич лишился работы в «Последних новостях», болел, перестал писать стихи. В апреле 1932 г. Берберова навсегда ушла из их квартирки в Биянкуре: «Он стоял у открытого окна и смотрел вниз, как я уезжаю. Я вспомнила, как, когда я снимала эту квартиру, я подумала, что нам опасно жить на четвертом этаже, что я никогда не буду за него спокойна. <…> Теперь в открытом настежь окне, он стоял, держась за раму обеими руками, в позе распятого, в своей полосатой пижаме»52. Эта зарисовка Берберовой венчала серию поэтических автопортретов Ходасевича, объединенных темой «поэт у окна». Ходасевич любил сочинять у окна, писать, сидя на подоконнике. В авторских комментариях к «Собранию стихов 1927 года» много помет такого рода: «Днем, в страшный мороз, на подоконнике. Окно было сплошь затянуто льдом»53, «…у раскрытого окна, вскочив с постели, в одной рубашке…»54, «было очень хорошо в моей комнате с раскрытыми окнами на Мойку»55. В воспоминаниях Берберовой окну в Доме искусств на Невском посвящен целый пассаж: «Это окно и полукруглая комната были частью жизни Ходасевича: он часами сидел и смотрел в окно, и большая часть стихов “Тяжелой лиры” возникла именно у этого окна, из этого вида. <…> В этом окне, под лампой “в шестнадцать свечей”, я видела его зимой, за двойными рамами, а весной – в раме открытого окна…»56. Полный созерцательности образ поэта и распятие в оконной раме – между этими двумя зарисовками Берберовой вся биография Ходасевича, годы нужды, изгнания, страха, болезней. Иная картина в стихах «Тяжелой лиры», в которых Ходасевич любит изображать себя высокомерным наблюдателем, материализующим грубый воздух улицы в поэтические строки. Взгляд с чердачных высот в его поэзии рождал мучительное желание – ударить по будничному аду кулаком. Не случайно слово «смирный» было одной из самых приметных и уничижительных характеристик обывателя в стихах Ходасевича. В стихотворении «Из окна» (1921)57 поэт надеялся: своенравный конь убежит от возницы, вор украдет цыпленка, от мальчишки улетит воздушный змей. Но все напрасно: безрадостный пейзаж двора восстанавливается в первоначальной стройности. Вторая часть стихотворения «Из окна» была написана в тот день, когда Ходасевич узнал о смерти Блока, и отсылала к известным блоковским строчкам: