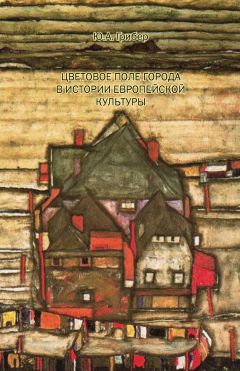Хосе Ортега-и-Гассет - Восстание масс (сборник)
Мне думается, сама искусность, с какой XIX век обустроил определенные сферы жизни, побуждает облагодетельствованную массу считать их устройство не искусственным, а естественным. Этим объясняется и определяется то абсурдное состояние духа, в котором пребывает масса: больше всего ее заботит собственное благополучие и меньше всего — истоки этого благополучия. Не видя в благах цивилизации ни изощренного замысла, ни искусного воплощения, для сохранности которого нужны огромные и бережные усилия, средний человек и для себя не видит иной обязанности, кроме как убежденно домогаться этих благ единственно по праву рождения. В дни голодных бунтов народные толпы обычно требуют хлеба, а в поддержку требований, как правило, громят пекарни. Чем не символ того, как современные массы поступают — только размашистей и изобретательней — с той цивилизацией, что их питает?[21]
VII. Жизнь высокая и неизменная, или рвение и рутина
Мы прежде всего то, что творит из нас мир, и главные свойства нашей души оттиснуты на ней окружением. Это неудивительно, ибо жить означает вживаться в мир. Общий дух, которым он встречает нас, передается нашей жизни. Именно поэтому я так настойчиво подчеркиваю, что ничего похожего на тот мир, которым вызваны к жизни современные массы, история еще не знала. Если прежде для рядового человека жить означало терпеть лишения, опасности, запреты и гнет, то сегодня он чувствует себя уверенно и независимо в распахнутом мире практически безграничных возможностей. На этом неизменном чувстве, как некогда на противоположном, основан его душевный склад. Это ощущение главенствует, оно становится внутренним голосом, который из недр сознания невнятно, но непрестанно подсказывает формулу жизни и звучит императивом. И если прежде он привычно твердил: «Жить — это чувствовать себя стесненным и потому считаться с тем, что стесняет», — то теперь он торжествует: «Жить — это не чувствовать никаких ограничений и потому смело полагаться на себя; все практически дозволено, ничто не грозит расплатой, и вообще никто никого не выше».
Эта внушенная опытом вера целиком изменила привычный, вековой склад массового человека. Стесненность и зависимость ему всегда казались его природным состоянием. Такой, на его взгляд, была сама жизнь. Если удавалось улучшить свое положение, подняться вверх, он считал это подарком судьбы, которая лично к нему оказалась милостивой. Или приписывал это не столько удаче, сколько собственным неимоверным усилиям, и хорошо помнил, чего они ему стоили. В любом случае речь шла об исключении из общего миропорядка, и каждое такое исключение объяснялось особыми причинами.
Но для новой массы природным состоянием стала полная свобода действий, узаконенная и беспричинная. Ничто внешнее не понуждает к самоограничению и, следовательно, не побуждает постоянно считаться с кем-то, особенно с кем-то высшим. Еще не так давно китайский крестьянин верил, что его благоденствие зависит от тех сугубых достоинств, которыми изволит обладать император. И жизнь постоянно соотносилась с тем высшим, от чего она зависела. Но человек, о котором ведется речь, приучен не считаться ни с кем, помимо себя. Какой ни на есть, он доволен собой. И простодушно, без малейшего тщеславия, стремится утвердить и навязать себя — свои взгляды, вожделения, пристрастия, вкусы и все, что угодно. А почему бы и нет, если никто и ничто не вынуждает его увидеть собственную второсортность, узость и полную неспособность ни к созиданию, ни даже к сохранению уклада, давшего ему тот жизненный размах, который и позволил самообольщаться?
Массовый человек, верный своей природе, не станет считаться ни с чем, помимо себя, пока нужда не заставит. А так как сегодня она не заставляет, он и не считается, полагая себя хозяином жизни. Напротив, человек недюжинный, неповторимый внутренне нуждается в чем-то большем и высшем, чем он сам, постоянно сверяется с ним и служит ему по собственной воле. Вспомним, чем отличается избранный от заурядного человека — первый требует от себя многого, второй в восторге от себя и не требует ничего[22]! Вопреки ходячему мнению служение — удел избранных, а не массы. Жизнь тяготит их, если не служит чему-то высшему. Поэтому служение для них не гнет. И когда его нет, они томятся и находят новые высоты, еще недоступней и строже, чтобы ввериться им. Жизнь как испытание — это благородная жизнь. Благородство определяется требовательностью и долгом, а не правами. Noblesse oblige[23]. «Жить как хочется — плебейство, благородны долг и верность» (Гете).
Привилегии изначально не жаловались, а завоевывались. И держались на том, что дворянин, если требовалось, мог в любую минуту отстоять их силой. Личные права — или privliegios — это не пассивное обретение, а взятый с бою рубеж. Напротив, всеобщие права — такие, как «права человека и гражданина» — обретаются по инерции, даром и за чужой счет, раздаются всем поровну и не требуют усилий, как не требуется их, чтобы дышать и находиться в здравом уме. Я бы сказал, что всеобщими правами владеют, а личными непрестанно завладевают. Досадно, что в обыденной речи плачевно выродилось такое вдохновляющее понятие, как «знатность». Применяемое лишь к «наследственным аристократам», оно стало чем-то похожим на всеобщие права, инертным и безжизненным свойством, которое обретается и передается механически. Но ведь подлинное значение — etymo — понятия «благородство» целиком динамично. Знатный означает «знаменитый», известный всему свету, тот, кого известность и слава выделили из безымянной массы. Имеются в виду те исключительные усилия, которым обязана слава. Знатен тот, у кого больше сил и кто их не жалеет. Знатность и слава сына — это уже рента. Сын известен потому, что прославился отец. Его известность — отражение славы, и действительно наследственная знатность косвенна — это отблеск, лунный отсвет умершего благородства. И единственное, что живо, подлинно и действенно, — это стимул, который заставляет наследника держаться на высоте, достигнутой предками. Даже в этом искаженном виде, noblesse oblige. Предка обязывало собственное благородство, потомка обязывает унаследованное. Тем не менее в наследовании благородства есть явное противоречие. У более последовательных китайцев обратный порядок наследования, и не отец облагораживает сына, а сын, достигая знатности, передает ее предкам, личным рвением возвышая свой скромный род. Поэтому степень знатности определяется числом поколений, на которые она распространяется, и кто-то, например, облагораживает лишь отца, а кто-то ширит свою славу до пятого или десятого колена. Предки воскресают в живом человеке и опираются на его действительное и действенное благородство — одним словом, на то, что есть, а не на то, что было[24].
«Благородство» как четко обозначенное понятие возникает в Риме уже в эпоху Империи — и возникает именно как противовес родовой знати, отчетливо вырождающейся.
Для меня «благородство» — синоним жизни окрыленной, призванной перерасти себя и вечно устремленной от того, чем она становится, к тому, чем должна стать. Словом, благородная жизнь полярна жизни низменной, то есть инертной, закупоренной, осужденной на саму себя, ибо ничто не побуждает ее разомкнуть свои пределы. И людей, живущих инертно, мы называем массой не за их многочисленность, а за их инертность.
Чем дольше существуешь, тем тягостней убеждаться, что большинству не доступно никакое усилие, кроме вынужденной реакции на внешнюю необходимость. Поэтому так редки на нашем пути и так памятны те немногие, словно изваянные в нашем сознании, кто оказался способен на самопроизвольное и щедрое усилие. Это избранные, нобили, единственные, кто зовет, а не просто отзывается, кто живет жизнью напряженной и неустанно упражняется в этом. Упражнение — askesis. Они аскеты[25].
Может показаться, что я отвлекся. Но для того чтобы определить новый тип массового человека, который остался массовым и метит в избранные, надо было раздельно, в чистом виде, противопоставить ему два смешанных в нем начала — исконную массовость и врожденную или достигнутую элитарность.
Теперь дело двинется быстрей, поскольку найдено если не решение, то искомое уравнение. И ключ к господствующему сегодня психологическому складу, мне кажется, у нас в руках. Все дальнейшее вытекает из основной предпосылки, которая сводится к следующему: XIX век, обновив мир, создал тем самым новый тип человека, наделив его ненасытными потребностями и могучими средствами для их удовлетворения — материальными, медицинскими (небывалыми по своей массовости и действенности), правовыми и техническими (имеется в виду та масса специальных знаний и практических навыков, о которой прежде рядовой человек не мог и мечтать). Наделив его всей этой мощью, XIX век предоставил его самому себе, и средний человек, верный своей природной неподатливости, наглухо замкнулся. В итоге сегодня масса сильней, чем когда-либо, но при этом непробиваема, самонадеянна и не способна считаться ни с кем и ни с чем — словом, неуправляема. Если так пойдет и дальше, то в Европе — и, следовательно, во всем мире — любое руководство станет невозможным. В трудную минуту, одну из тех, что ждут нас впереди, встревоженные массы, быть может, и проявят добрую волю, изъявив готовность в каких-то частных и безотлагательных вопросах подчиниться меньшинству. Но благие намерения потерпят крах. Ибо коренные свойства массовой души — это косность и нечувствительность, и потому масса природно не способна понять что-либо выходящее за ее пределы, будь то события или люди. Она захочет следовать кому-то — и не сумеет. Захочет слушать — и убедится, что оглохла.