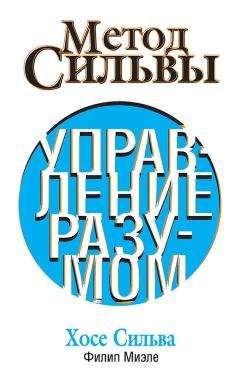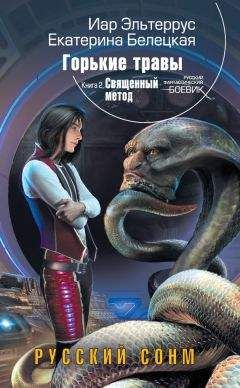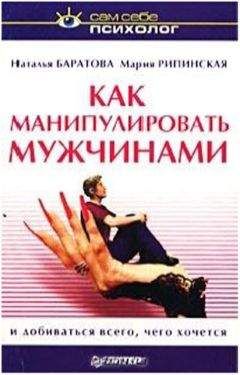Петр Попов - Режиссура. О методе

Обзор книги Петр Попов - Режиссура. О методе
П.Попов
Режиссура. О методе.
I
Пожалуй, единственное, чему можно пытаться обучать в театральном деле - это метод. Однако в своем понимании метода разные мастера, порой, оказываются столь мало согласны друг с другом, их взгляды и пристрастия столь различны, что иногда хочется задать вопрос: «А был ли метод?» Тем не менее, каждодневная педагогическая практика требует своего, на какие-то вопросы приходится отвечать ученикам, коллегам, а прежде всего - самому себе. Вот и вызрела потребность зафиксировать свои соображения по этому поводу на бумаге...
Ни в коем случае не хочу, чтобы все изложенное здесь было кем-нибудь воспринято как некая истина в конечной инстанции, как свод безусловных аксиом и тем паче рецептов. Нет, Это только моя, сугубо личная точка зрения, результат многолетних наблюдений, размышлений, сопоставлений, практического опыта. А главное, пожалуй, - результат общения со многими замечательными людьми, счастье встреч с которыми подарила мне Судьба. Многое, о чем я буду говорить, насколько мне известно, вообще никогда и никак не публиковалось, существует только в «устных преданиях», зачастую подвергаясь неизбежным искажениям и субъективным толкованиям при изложении. Столь же Субъективен и тенденциозен, вероятно, окажусь и я. Точно так же все приводимые мной примеры анализа пьес, их сценических решений -только моя, сугубо личная, точка зрения. Тут ничего не поделаешь: наша профессия предполагает этот субъективизм. Но для того, чтобы что-то хоть как-то внятно объяснить, нас нет иного пути, как только допустить свидетелей на собственную творческую «кухню»...
Итак, речь пойдет о методе.
Приходится признать: в нашей теории и методологии все еще столь зыбко и неопределенно, так далеко от конкретной научной обоснованности, что если бы не привычка и леность, - . вопросы должны были бы возникать на каждом шагу, а попытки ответов на них порождали бы все новые и новые проблемы.
- Что такое, собственно говоря, метод? - Напрашивается ответ: «Система Станиславского»! - А что такое «Система Станиславского»? - Да кто ж этого не знает?! Но, как ни печально, и на этот вопрос сегодня требуется внятный ответ. Сколько бы мы ни толковали: «учение о сверхзадаче», «учение о сквозном действии», сколько бы ни склоняли пресловутые «элементы» - ясность от этого не наступает. А если еще учесть, что сам Константин Сергеевич отнюдь не торопился с публикацией своих работ, считая их незавершенными, недостаточно проверенными... Более того, написанное им устаревало чуть ли не на письменном столе. Станиславский шел вперед, учение развивалось и совершенствовалось. Но были ученики, которые, застав какой-то один определенный этап поисков Учителя, абсолютизировали достигнутое на этом этапе. Ученики уходили, распространяя свое представление о «системе», канонизируя не только известные теоретические положения, но и конкретные практические приемы, подходы, даже упражнения. И это относится ко всем, даже самым самостоятельным и талантливым. Как любил повторять А.А.Гончаров: «Весь Михаил Чехов - это Станиславский издания двадцатых годов»... А ведь впереди были еще тридцатые, может быть, самые плодотворные по части формирования метода годы.
Значит, отстаивая систему Станиславского, ее принципы, нельзя ни в коем случае возводить в догму отдельные ее тезисы и положения, начетнически повторяя формулировки и определения, как бы замечательны они сами по себе не были. Скорее необходимо проникнуться духом великого учения, его экспериментальной, творческой сутью. Система - это вектор основного направления психологического реализма в драматическом искусстве. Некоторые ее моменты, открытые Станиславским, имеют непреходящее значение (например, действительно, учение о сверхзадаче), но частности, тем более конкретные педагогические приемы, могут не только подвергаться пересмотру, но обязательно1, неизбежно обновляться. Так и сегодняшний взгляд на «метод физических действий» - последнюю, величайшую страницу творческого поиска гения, вероятно, должен несколько отличаться от того, как он воспринимался современниками - учениками, сподвижниками, свидетелями...
II
Вот мы и подступили вплотную к тому, что называется методом. Но и тут неожиданно оказывается, что никакой ясности нет. Мы почти механически повторяем: «метод физических действий», «метод действенного анализа», «этюдный метод», зачастую не давая себе труда разобраться в разнице этих понятий. При этом все три «метода» воспринимаются как нечто почти идентичное.
Помню, как-то много лет назад я на эту тему попытался завести разговор с покойным О.Я.Ремезом - серьезным и глубоким знатоком наследия К.С.Станиславского. Ремез ответил: «Да никакой, в сущности, разницы нет. Просто М.О.Кнебель вечно спорила с Топорковым и Кедровым по части понимания метода физических действий, и чтобы ее версию не путали с чужой, дала ей свое название - «метод действенного анализа». Я успокоился и надолго удовлетворился этой точкой зрения, выкинув проблему из головы. И только годы спустя, поработав рядом с А.А.Гончаровым, понаблюдав репетиции мастера, послушав вместе со студентами его лекции, я понял, как был неправ О.Я.Ремез и как я сам столько времени благополучно пребывал в заблуждении. Теперь я убежден: речь идет о трёх вполне самостоятельных элементах, вместе cоставляющих единый метод работы режиссера над пьесой [1].
Откуда же возникла путаница? - Думаю, одна из главных причин в том, что и Станиславский, и Кнебель в своих литературных трудах выступали прежде всего как педагоги. Станиславского волновали поиски путей освобождения артистов от штампов, он нащупывал средства, пробуждающие личностное присутствие артиста в роли. Мария Осиповна, волнуясь теми же проблемами, занималась преимущественно со студентами. Отрытый Станиславским прием - репетировать пьесу этюдно - стал превосходным ключом для решения этих (и многих других) задач. Отсюда и во всех отрывках Станиславского, посвященных методу физических действий, и в работе Кнебель («О действенном анализе пьесы и роли») огромное внимание уделяется этюду -новому способу ведения репетиции, интенсивно ускоряющему процесс и сводящему «застольный период» до минимума. Из-за этой-то приверженности обоих к этюдной работе и возник, на мой нынешний взгляд, мотив отождествления совершенно разных моментов метода.
Должен сказать, тут я оказался не одинок. Профессор Санкт-Петербургской Театральной Академии В.М.Фильштинский говорит о том же: «Что такое «метод физических действий» и почему его так называют? Почему «метод»? Метод чего? Репетирования спектакля? Индивидуальной работы актера над ролью? Или это всего лишь метод втягивания в работу? Или метод создания опор для партитуры роли? И почему, говоря «метод физических действий», часто опускаются физические ощущения? Казалось бы, вернее говорить: «Метод физических действий и ощущений». И как этот метод связан с другим - с методом действенного анализа? Почему часто их упоминают рядом или вперемешку?..» [2].
На все вопросы, предельно точно поставленные Вениамином Михайловичем Фильштинским, я попробую дать свои ответы. Но для того, чтобы это сделать, как вообще для всего, что связано с пониманием метода, думаю, сегодня необходимо вынести за скобки разговора все, что связано с этюдом, и остановиться на том, что по сути является «методом физических действий» и «методом действенного анализа».
Однако может быть по этой именно причине, все-таки стоит несколько слов сказать об этюдном способе репетирования и о его отличии от этюда как средства обучения актера, того самого этюда, который является основой программы I-го курса актерских факультетов всех, вероятно, специальных учебных заведений России.
Этюд учебный и этюд репетиционный - вещи принципиально различные. Они различны во всем: в своих целях, в процессе подготовки и проведения, в анализе и даже в критериях оценок.
Учебный этюд, в его современном понимании, это совсем не то, о чем писал когда-то Константин Сергеевич в «Работе актера. ..» - помните, бесконечные репетиции галиматьи под названием «сжигание денег»? Вот уж где никакой правды, ни жизненной, ни театральной, сплошная «вампука» или как бы мы сказали сегодня «Санта-Барбара»! Сегодня (вопреки традициям и практике большинства кафедр) учебный этюд не только не может репетироваться, но должен существовать принципиально одноразово. Всякая попытка повторить учебный этюд - грубейшее искажение его существа, смысла, задач. Учебный этюд призван привить будущему артисту навыки личного присутствия в воображаемых обстоятельствах, в воображаемой ситуации. При этом исполнитель должен быть поставлен в такие условия, которые максимально вынуждали бы, провоцировали бы его действовать «подлинно, целесообразно, продуктивно» (по терминологии Станиславского). А это возможно, на начальном этапе освоения профессии, лишь в том случае, когда участники этюда ничего не знают наперед, когда у них нет ни заготовленных реплик, ни намеченной хотя бы приблизительно событийной структуры, ни канвы поведения. Каждый полностью зависит от сиюсекундного поведения, партнера. При подготовке такого этюда важнейшим моментом является «сговор»: кто мы, кем приходимся друг другу, каковы обстоятельства, в которых мы будем действовать, и, главное, что послужило отправной точкой конфликта, каково «исходное». Чем точнее «сговор» - тем успешнее пройдет этюд. Вообще последнее время меня преследует ассоциация артиста с точнейшим и чутким компьютером: если в актера режиссером или педагогом заложена точная, конкретная, грамотная «программа» - его природа немедленно отзовется верно и талантливо, если же «программа» неконкретна, содержит в себе ошибку - природа незамедлительно даст сбой, произойдет актерский «вывих», а уж если не дай Бог, в компьютер запущен «вирус»...