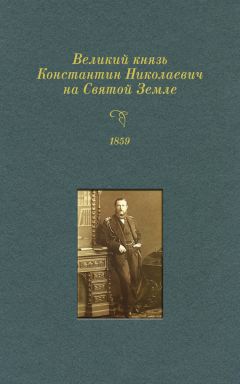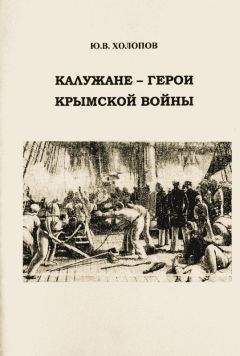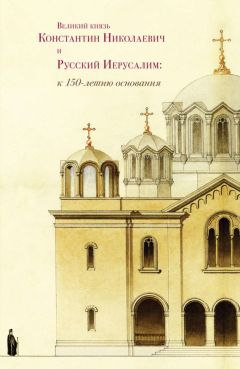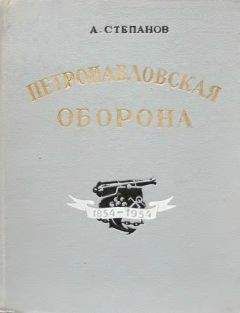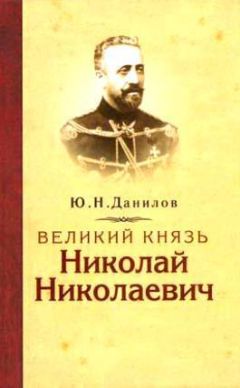Сергей Максимов - Год на севере
— Станут они тебе сказывать, что в Бога веруют, не слушай — врут!
Первые моменты знакомства с Ижмой решительно не говорят этого, напротив, наглазною обстановкою доказывают совершенно противное. А между тем второе показание старика оказывается справедливым. Радушно встречает меня хозяин отводной квартиры, не позволяет пить моего чаю и, не шутя, ворчит на это предложение мое и чуть не бранится. Тащит он, суетясь как угорелый, снизу несколько тарелок: с баранками, с изюмом, с пряниками, с кедровыми орехами-меледой, откуда ни берет бутылку хересу, графин водки, и все это просит потреблять вместе, валить в кучу. Наливает густого, как пиво, дешевого чаю, просит сахар класть в стакан и как только возможно больще — не жалеть; обещает принести сливок, и приносит такие густые, о которых редко где имеют понятие в другом месте губернии, кроме Холмогор; божится, что обшарит завтра всю волость, чтобы достать лимону; обещает того, другого, всего... Неужели и после этого должно давать веру словам моего пустозерского приятеля? Нет, что - нибудь далеко не так!
Следующий день исключительно покушается разбить все оставшиеся сомнения, если не разбивает их окончательно: с утра являются один за другим седые, почтенные старики просить отведать их хлеба-соли и потом встречают на крыльце, и суетятся приветливо, и, видимо, чистосердечно. Не зная, чем занять гостя, потчуют меледой, горсть которой, без сноровки и привычки в полчаса не общелкаешь. Не зная, чем чествовать, ставят на стол осетрину — диковинку своего края, вывозимую из дальней Сибири, с Оби, вареные оленьи языки, оленьи губы, удивительно вкусные, редкие свои блюда, и квас, как лакомство, заменяющее здесь неведомое пиво. Семгой, как дешевой рыбой, они даже и не угощают и, оправдываясь, толкуют:
— Непроваренная она не здорова, свежая скоро приедается.
По этой причине везде по Печоре для ухи (по-ихнему щербы) режут на мелкие куски и варят. Потом вываливают куски на лоток, солят и остуживают. В уху прибавят несколько горстей муки и снова варят.
— Нарочно по твоего высокоблагородья на вечор олень колотлы, отведуй: оченно нам отлично буде! — приговаривают зыряне при этом бойким русским говорком, хотя и с неверным выговором слов и с неверными ударениями на них, делающими речь ижемцев похожею на цыганский говор дальней России. Самый язык зырянский, более, впрочем, приятный в устах женщин, чем мужчин, бьет ухо богатством неприятно-гортанных и шипящих звуков. За стол с нами женщины не садятся, — приносят только с низкими поклонами блюда и сейчас удаляются, не примолвив ни единого слова. Собеседники мои не пускают родного моего языка в исключительное употребление, при задаваемых вопросах обращаясь к сотрапезникам на зырянском языке. Пусть же они как-то подозрительно переглядываются и выпрашивают друг у друга ответов на эти запросы, обращенные исключительно к их житью-бытью, к оленеводству. Я готов на этот раз объяснить все это про свой обиход так: гортанность их языка тем, что он отрасль чудского; отсутствие женщин — старым вековым обычаем (доселе соблюдаемым) видеть в женщине исключительно рабыню, а не человека; страсть к родному языку — прирожденным правом всех народов.
Можно бы объяснить и переглядки, и косые взгляды, и их недоверчивость к вопросам, и их нежелание прямо и словоохотливее отвечать на них — тем, что зыряне большую часть года проводят в среде соплеменных семей и не привыкли к новым свежим людям. Пожалуй, даже, наконец, объясню это себе простою привычкою, родовою народною особенностью. Но несмотря на все это, ответы оказались многознаменательнее и важнее, чем казались на первых порах. В зтом деле, как и во многих других подобных, помог мне случай. Оставалось потом выследить его по горячим следам.
Дело происходило вот как:
Беседовали мы о разных мелочах вшестером, и результатом беседы нашей было: для них — то, что выпили два самовара больших-пребольших и общелкали большую, глубокую тарелку, насыпанную верхом кедровыми орехами, для меня — несколько скудных, впрочем, сведений...
Ижемцы мои заметно скрытничают, как будто чего-то опасаются, частенько переглядываются, вдруг круто переменяют разговор совсем неожиданно, и преимущественно в тех местах, где он принимает более оживленный характер.
— Нет, что-нибудь да не так! — думалось при этом мне, избалованному, может быть, словоохотливостью и откровенностью недавно покинутых добрых пустозеров. Слова одного из тамошних: «Хитрый зыряне народ, ты смотри: не поддавайся им», — восставали, как живые, по-прежнему.
— Хитрый народ вся эта «ижемца́»! — Так обычно называют всех зырян, присоседившихся своими селениями к русским печорцам гораздо позднее поселения последних на устье реки Цильмы. При этом собирательное имя, обращенное в собственное, с удержанием на последнем слоге, обязательно склоняется грамматически, с неизбежным печорским причокиванием, — говорят: «у ижемчей, в Ижемчах». Это слово совершенно вытеснило название зырян и па этот раз основательно в том смысле, что ижемцы на коренных зырян теперь мало похожи. Народное присловье, обозвавшее их «борщеедами», насмешкою этой не отделяет от устьцилемов: и эти, в стране, где плохо прививается огородничество, вместо капусты квасят и запасают впрок на зиму дикорастущие на лугах деделюшки или деделю (она же борщ, пучок).
Попробовал я обратиться с вопросом о том, существуют ли между зырянами какие-нибудь предания об их далеком прошлом, но получил в ответ немногое: что в чудских могилах, при устье Ижмы с Печорою, в горе находили лет тому 20 назад монеты, что попадаются там же мамонтовы рога (кости), хоть и редко; что есть-де крест по пути в Сизябу, на могиле Киприяна, одного из друзей Аввакума, сосланного сюда за раскол и которому отрубили здесь голову за то же самое; что в селении Усть-Ижмы есть поганый курган, на месте которого в досельную пору был чудский город; что раскапывая курган, нашли там копье...
Спросил я об истории и причинах выселения их, по преданиям, в дальнюю страну, из стран пермских — центра заселений зырян, по крайней мере, в то время, когда застали их на этом месте история и Евангелие, но собеседники мои как-то уж особенно дико переглянулись и замолчали все до единого еще сосредоточеннее и упорнее. Пришлось остаться на этот раз при тех же немногих сведениях: что грабежи и обиды казаков, ходивших через места их прежних селений у истоков Ижмы, в Яренском уезде Вологодской губернии, с верхотурскою казною в Москву, заставили их всем населением выбраться на благодарную, хотя и дальнюю местность устья той же реки; что население Ижмы увеличилось впоследствии выходцами из ближней Усть-Цильмы, - значительно населенной и сильной уже в то времн своими материальными средствами; к зырянину, выселившемуся сюда из Яренского уезда, из деревни Глотовой, присоседились братья Чупровы из Усть-Цильмы и с собою распространили право, данное грамотою Грозного Ластке, распространили на эту местность. Собственно же на ижемских зырян выслана была владетельная грамота царями Михаилом и Алексеем (в 1627 и 1649 гг.). Грамоты эти пропали. Взял чиновник губернатора и увез в Город (Архангельск). Селились здесь и самоеды, теперь утратившие свою народность и свой родовой тип под влиянием зырянского, который только некоторою смуглостью лица (и ничем другим, внешним) отличается от славянского. Здесь пролегала сибирская дорога при царях и Великия и Малыя и Белыя России самодержцах...
Старинные бумаги, уцелевшие в церквах и правлении от пожаров и крайнего невежества хранителей и попавшие в мои руки, говорят тоже немногое: одна повелевала давать только сотнику стрелецкому гребца и не давать того же простым стрельцам города Архангельска, идущим в Пустозерский острог, на том основании, что «они сами под собою грести могут». Второю — указом (1688 г.) царя и великого князя Федора Алексеевича — повелевалось уничтожение тарханных грамот[62] на сальные промыслы в пользу - Троицкого Сергиева монастыря, доходы с которых от этого года должны были обращаться уже в государеву казну. Третьею — указом (1697 г.) царя Петра Алексеевича делалась память голове и целовальникам таможенного и кружечного двора, чтобы они, при недостатке в холмогорском вине, прикупили бы «где пристойно самою малою ценою без передачи». В четвертом свитке (длиною 4½ сажени) подробно означаются правила таможенного сбора с проезжающих в Сибирь и обратно из Сибири русских и тамошних купцов (в Ижме была таможенная застава), указывается на некоторые злоупотребления, бывшие при этом деле, и приказывается вести книги, В пятом свитке, самом древнем из имеющихся у меня по времени, содержится указ царя Алексея Михайловича (1678 г.), которым велено было ижемцам везти лес и строить четыре острота для ссыльных в Пустозерск исторических раскольников: протопопа муромского Аввакума, симбирского Никифора, распопы Лазаря и старца Епифания. Из старинных же бумаг, сохранившихся в церковном архиве, более замечательною, сравнительно с другими, можно считать указ (1760 г.) архиепископа Холмогорского и Важеского Варсонофия, которым приказывалось разыскать попа, провинившегося в том, что он за пуд трески покрыл одного раскольника, освободивши его от исповеди и святого причастия. Архиерей приказал обрить ему за это полголовы и послать в Архангельский монастырь на вечную работу с тем опять-таки, чтобы, по прибытии его на место, обрить ему там остальные полтоловы и полбороды. Как видно по розыску, священник, испугавшись подобного решения, бежал и, как думают, в топозёрские раскольничьв скиты. Вот все сохранившиеся в Ижме старинные бумаги!..