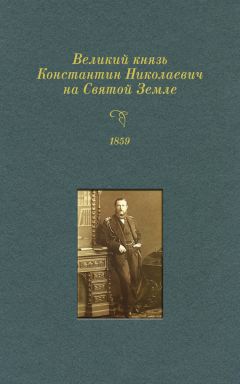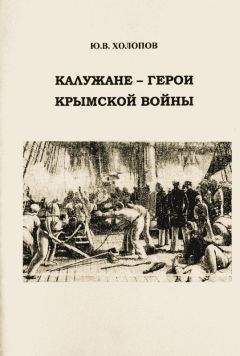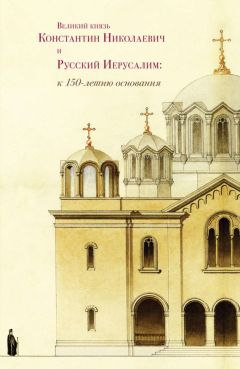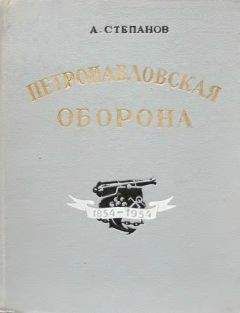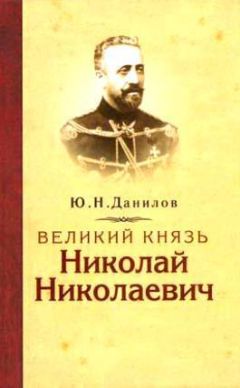Сергей Максимов - Год на севере
Слепая приверженность к старине, с другой стороны, породила (как и естественно) между зырянами ту простодушную простоту, которая, по народному присловью, хуже воровства и, по общим законам природы,
служит на горе и подчас на несчастие самого простодушного простака. Так, зыряне, любя принять и угостить гостя, сами, в свою очередь, сильно любят угощения, полагая в том свое благополучие, и видят уважение к своей личности во всяком поклоне стороннего человека, хотя бы человек этот и делал то преднамеренно, с заискивающей целью. Тут зырянин забывает все стороннее, все свои выгоды и сделки и чтит гостеприимство, как гостеприимство, и забывает (если только не прощает) долг в 6000 рублей (как и сделал один из ижемцев) за то только, что при первом пробуждении его в доме должника были ему готовы лошади, чтобы ехать на завтрак, потом, на обед и на вечернее угощение, всегда обильное, сытное и жирное, и готов даже в простоте сердца прихвастнуть (вернувшись домой без денег, но с подарками) тем почетом, который получил он от толковых и истинно уже хитрых должников своих. Зато скуп он до крайности и кремнем смотрит на все, что закрыто и заперто в его больших, кованых сундуках. Таковы, по крайней мере, ижемские зыряне старого закалу! Они умеют бражничать, умеют и копейку зашибать. Одних замшевых заводов у них насчитывается до тридцати. Никакою статьею произведений печорского края они не брезгают. Птица, рыба, оленьи шкуры, рога, языки, сало оленье и говяжье, масло коровье, песцы, лисицы, куницы, выдры, моржовая и мамонтовая кость (рога), пух и перья, гагарьи шейки — все в руках ижемских зырян, этой смеси коренных зырян с людьми русской крови новгородского происхождения. С товаром своим они везде поспевают: и на Никольскую ярмарку в Пинеге, и на Маргаритинскую в Архангельске, и на Евдокиевскую в Шенкурске, в Кострому и Галич, в Москву и Нижний. Неизвестно, что выработает себе и чем заявится новое поколение, но пусть оно будет так же стойко в данном на честь слове; пусть будет так же изворотливо в коммерческих предприятиях и не гнушается мелочными из них сначала, пусть будет так же патриархально, единодушно и взаимно помогать друг другу; меньше пьет вина, которое положительно гибельно для всякого неразвитого человека, тем более полудикого инородца (самоеды спились окончательно!). Пожелаем, наконец, чтобы меньше обижали они этих самоедов, то есть совсем перестали выезжать с бочками хлебного вина в тундру.
Впрочем, как известно, громадное большинство зырян не только ижемских, но и всех остальных печорских — коренные, так сказать, природные звероловы, уходящие на промысел даже в зауральские леса с бывалым вожаком и в артелях человек до десяти. Берут в лесах все, что попадется: всякого зверя и птицу; но в барышах насчитывают больше всего белку или векшу, кочующую несметнымя стаями по сосновым лесам и кедровым рощам. Когда она «течет», то есть обещает улов, это видят зыряне и по урожаю еловых шишек и по птице клесту. Эта птица — вожак беличьих артелей, а потому, как только она появится, зырянские артели спешат выбрать своего вожака и также идут в сосновые леса месяца на три. Вожака за почет не обременяют никакой поклажей: всю ее раскладывают по артельным нартам. В них: сухари, сушеные пироги с крупой, мука, крупа, сало, а главное — порох, свинец и запасные ружья, всего на каждого пудов до двенадцати. На лыжах и ламбах везут они на себе длинные легкие нарты по крутым спускам гор, по глубоким сугробам. Для того на них зипуны немного ниже колен с меховыми рукавами и рукавицами и старые рваные малицы на тот случай, когда придется переменить белье из той пары, которая взята с собой. Привалы делаются дня через два или три, а здесь и еда: для себя — любимые блины на сале и сушеные пироги, истертые в кашу, которая зовется «рогожей» (да такова и с виду), для собак — беличье мясо. С удачного промысла иной приносит до 500 беличьих шкурок, а хороший стрелок при счастье убьет в один день до 20 штук.
— Утром, — говорят они, — как выйдешь, ин — ничего, холодновато. Ну, а как завидел - белку, одну да другую — начнешь поскорее ходить, и станет жарко, как в огне.
По кряжам, то есть по сортам, ценятся в торговле беличьи шкурки и «дошлая» (хорошо выцветшая) белка «зырянка» полагается в лучших сортах и покупается кармолами на пинежской и краснослободской ярмарках подороже прочих сортов. В «зырянах» пушистый хвост белки опытных стрелков не обманывает. К сожалению, только необходимо сказать, что за истреблением лесов и там начали старики опускать головы и поговаривать: «Где куница жила, там теперь, и белки не найдешь».
6. САМОЕДЫ
При этом имейи как живая перед глазами восстает теперь в моем воображении жалкая фигура приземистого, низенького самоедина с лицом, обезображенным оспою и украшенным снизу реденькой бороденкой, плохо выросшей, сверху черными волосами, торчащими копной. При входе в дверь моей комнаты, он обеими руками быстро схватил с головы своей шапку-пыжицу с длинными ушами, разукрашенными по местам разноцветными сукнами, и повалился в ноги. Тяжело приподнявшись, он промычал, искоса взглядывая на меня:
— Чум ехать, ну!..
Он махнул при этом правой рукой с шапкой в сторону окна, уставившись потом глазами в землю. Это был мой проводник, присланный самоедским старшиной — истинный тип, годный для фотографии как лучший образчик самоедского облика.
— Водки хочешь? — спросил я его.
— Ладно!
Самоед при этом слове, покрутивши плечами и засучив рукава, сделал три шага вперед.
Он выпил, Я предложил ему закусить тарелку с семгой, но самоедин презрительно махнул рукой, отвернулся и обтерся потом подолом своей малицы. Чтобы не заставить его дожидаться меня на морозе, крепко закрутившем в то утро, я предложил ему первую попавшуюся под руку сигару. Самоедин, откусивши порядочный кусок, спрятал его за щеку, а остальную половину сигары утацил в рукав. Я остановил его советом:
— Курить это надо. Не ешь — скверно!
— Сожру, хорош.. порато.
— Едят ведь, едят, ваше благородье! Ты его не замай! — объяснил откуда ни взявшийся хозяин, который покровительственно похлопал самоеда при этих словах по голове и потом продолжал:
— Им этот табак пуще водки. Привозим же мы им в чумы-то дергачу этого; за ручную горсть песца отдают.
— Ты смотри, Васька, надевай шапку-то, — сегодня шибко холодно: за язык хватает!..
Замечание это относилось к самоеду, и ко мне другое:
— Завсегда без шапки: какой ни жги их мороз, разве уж когда ветром крепко шибать станет, надевают ее.
— Крестивой ты? — спросил я самоеда.
Вместо ответа самоед запустил руку под малицу и с большим трудом просунул из-под бороденки и воротника малицы медный надломленный крест. Словесный ответ за него держал опять-таки хозяин все с тем же покровительственным тоном:
— Крестивые они, все крестивые: любого спроси — крест покажет, а чтобы эта вера...
Хозяин, не кончив речи и покрутив головой, обратился к самоедину:
— Ты, Васька, ступай к оленям: не запутались бы. Начальник сейчас выйдет!
— Веры этой нет у них, — продолжал он вполголоса после того как самоед захлопнул за собой дверь,— вон ихний бачко, пожалуй, сказывает, что на Колгуеведе двадцать семей окрестил, а что проку? Окрестить самоеда легко. В церкву они не заглядывают, а и пригонят которого: на пол ляжет. Детей крестят не молочников, а, гляди, лет в десять, а то и позднее; жену берут зря, что полюбовницу, и никаких таких обрядов при этом не делают, и про законы около этого дела не слыхать. Заплатит жених за жену, что спросит отец, оленями ли, песцами ли, али бо деньгами, да и живет, Бога не ведая. И если возьмет, он одну жену, тем не довольствуется: гляди, другую присмотрел и ту к себе тянет. Иньки-то, известно, дерутся же промежду собой: одна, значит, над другой старшой хочет быть, а ему ничего! — не его дело. Вера их — известная вера: обшарь-ко хорошенько, запусти ему руки за пазуху, так вот, — не стоять мне на этом месте! — божка, чурочку такую деревянненькую, безотменно вытащишь. Он и сечет его коли что не по желанию его сделается; он ему и кусочек оленьего мяса в рыло тычет, коли что благополучно сойдет; а нет, так бросит, другого сделает, с другим уж водится. Спросишь: крестивой, мол, ты? «Крестивой!» — скажет, а божок в кармане... Какую ты веру от них захотел, когда вон они песцов едят? Поезжай — сам увидишь!
Мы отправились. Опять снежные поляны раскинулись со всех сторон: скакали впереди саночек наших олешки, понурив головки; олёлёлькал на них проводник, и приходилось мне прятать свое лицо под совик, поворачиваясь спиной к северу, откуда тянуло невыносимым морозом, при полном безветрии. Совик скользил по малице и малица по пимам, оставляя колени неизбежному влиянию мороза. Дали мы первый маленький дох оленям и в конце второго выехали из кустарника на новую поляну. Вся она на этот раз уже была подернута густыми сумерками: но в трех разных местах ее мелькали огоньки: один, словно теплина, которые раскладывают волжские пастухи на ночнине, два других пускали пламя и дым, густой, стоявший неподвижным столбом. Увлекли меня эти приветливые огоньки в дальнее прошлое: на этот раз хотелось видеть стреноженных лошадей, глухо побрякивающих в ночной тишине колокольцами хотелось слышать хлопанье плети, свист живого человека, крик коростеля, засевшего глубоко в траве. Уже едва не чуялся свежий, живительный, здоровый запах только что скошенной травы. В светлых образах восставало все это в воображении, как родное, никогда и никем не забываемое, как контраст, наконец, всему тому, что развернулось теперь перед глазами в действительных образах, далеко не таких. Кругом — олени. По всей поляне разбрелись они, и белая поляна превратилась почти в сплошную серую: один постукивает то правой, то левой передними ногами в снег, перестает на время, наклоняется, как будто обнюхивает место, и опять начинает стучать копытами, сменяя одно другим, и стучит долго, настойчиво. Другой олень стоит неподвижно на одном месте, как будто врос в него, уткнувшись мордой в черную тундру; несколько других оленей бегают в круги; двое дерутся рогами. Над всем этим глубокое, невозмутимое ничем молчание.