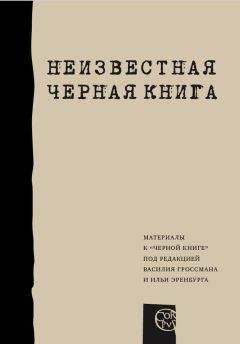Илья Эренбург - ЧЕРНАЯ КНИГА
Л. Б. Гермайзе оставили в гестапо, а через некоторое время следователь явился к Т. П. Глаголевой допросить — украинка ли Гермайзе. Т. П. Глаголеву заставили расписаться в том, что ее показания верны, и что в случае, если Гермайзе еврейка, Глаголеву расстреляют вместе с Гермайзе. Глаголева заявила, что она давно знает семью Гермайзе, как прихожан церкви, где служил отец ее мужа, и что не может быть даже двух мнений о национальности Гермайзе. После этого Гермайзе отпустили.
Дома Людмилу Борисовну ждал новый удар. Она узнала, что ее старушка-мать, 70 лет, была обнаружена немцами и отправлена в Бабий Яр. Спустя три месяца бедная Людмила Борисовна вновь попала в гестапо, где и погибла.
Осенью 1942 года и зиму 1942/43 г. я с семьей Глаголевых проживала в селах за Днепром: сначала в селе Тарасовичи, а потом в селе Нижняя Дубечня. К этому времени, т.е. с осени 1942 года, за Днепром, особенно в лесных районах, начали усиливаться партизанские выступления. Партизаны появлялись по ночам, а иногда и среди дня. Они расправлялись с угнетателями и их прихвостнями-полицейскими.
Будучи не в состоянии справиться с партизанской вооруженной силой, немцы избрали другой путь борьбы. Они присылали в ”провинившиеся” села свои карательные отряды, которые сжигали села, расстреливали и вешали, сжигали мирных жителей. Цветущие села были превращены в сплошные пепелища. Так были сожжены вблизи Киева Писки, Новая Висань, Новоселица, а позже — Ошитки, Днепровские Новоселки, Жукин, Чернин и др. Эта волна докатывалась и до Нижней Дубечни, где мы жили. Однажды Глаголевых вызвали в сельскую управу для проверки паспортов. Здесь им в грубой форме заявили, что батюшке с матушкой и детьми, а также дьяку жить пока разрешают, а ”якийсь там родичци з дивчиной” (т. е. мне и дочери Ирочке) ”нема чого тут без дила ходити, хай идуть до Киева працювати”.
С большими трудностями я добралась с дочерью в город и опять поместилась на колокольне Покровской церкви. Это было 9 января, а к концу месяца в Киев вернулась вся семья о. Алексея. Он же сам оставался в Н. Дубечне. 31 января в село явился карательный отряд проводить расправу за то, что через Н. Дубечню накануне утром проехал партизанский отряд. Прибывшие гитлеровцы совместно с полицейскими пропьянствовали всю ночь, а на рассвете совершили чудовищное злодеяние. В одной хате заперли они трех мужчин, одну женщину и 5-летнего мальчика, облили постройку керосином и подожгли.
Узнав о случившемся, священник Глаголев поспешил к месту казни, но кроме пожарища и нескольких плачущих людей там никого не было. На следующий день (было воскресенье) он объявил в церкви, что после обычной службы совершит панихиду по невинно-замученным.
Через два дня обгорелые человеческие останки были похоронены о. Алексеем на кладбище. После этого о. Алексею оставаться в селе нельзя было и он возвратился в свою городскую церковь.
Все это время я получала справки, что я работаю в церкви как уборщица и что на моем иждивении находится малолетняя дочь. Для меня получали хлебные карточки. В это время за людьми охотились всякие инспектора, выискивая жертвы для немецкой каторги. К счастью, эти ревизоры никогда не проникали в нашу ”тихую обитель”. Упомянутые справки, а также искусное маневрирование А. Г. Горбовского спасли нас.
Когда осенью 1943 года, в связи с приближением Красной Армии, немцы объявили эвакуацию Подола, мы все твердо решили отсиживаться в квартире о. Алексея.
Через 10 дней после объявления Подола (часть Киева) ”запретной зоной” немецкие жандармы ворвались в помещение и всех нас, полураздетых, выволокли в ближайший скверик, а затем погнали на Лукьяновку, где еще можно было жить. После этого мы три раза меняли свое местопребывание, все не желая уехать из Киева. Последним местом нашего пребывания была церковь в подвале в Покровском женском монастыре (улица Артема). Отсюда жандармы нас погнали в концлагерь на Львовской улице (бывший военкомат). Здесь нас продержали голодных и заставили чистить уборные. После этого, разделив мужчин и женщин, погнали на вокзал. При этом семья о. Алексея оказалась отделенной от нас, и мы потеряли друг друга.
Меня с дочерью и А. Г. Горбовского с матерью с массой другого люда в закрытых вагонах довезли до Казатина и здесь отпустили (это произошло чисто случайно). В Казатине мы дождались прихода Красной Армии, а затем вернулись в Киев.
Здесь мы узнали, что семья о. Алексея в Киеве, но сам он тяжело хворает. За нежелание выехать из Киева его сильно избили немцы. После этого он захворал сотрясением мозга и долго лежал в больнице.
Все мы, спасенные Глаголевым, бесконечно признательны и благодарны ему.
Приход Красной Армии вернул нас к жизни. Трудно было поверить, что мы вновь свободно живем, чувствуем, ходим...
КСЕНДЗ БРОНЮС ПАУКШТИС.
Автор Гирш Ошерович. Перевел с еврейского М. А. Шамбадал.
Паукштис, высокий, полный человек лет сорока, пригласил нас в свой кабинет — кабинет древнейшего в Ковно прихода ”Триединства” и рассказал о различных подробностях своей деятельности по вызволению и спасению евреев в дни немецкой оккупации.
Паукштис установил связь с неким монахом Бролюкасом[51]. доставлявшим паспорта для спасения евреев. Нередко Паукштису приходилось выдавать из собственных средств по 500 марок на расходы, связанные с получением подложного паспорта.
Как священник Паукштис сам выписывал метрики для похищенных и спасенных из гетто детей и лично помогал находить места для их устройства. Когда он устраивал четвертую спасенную им еврейскую девочку — Визгардискую, ему сообщили, что им интересуется гестапо...
— Что мне оставалось делать? — говорит Паукштис. — Я сел в поезд и, сообщив по приходу, что еду посетить своих коллег-ксендзов, уехал к крестьянам, у которых я устроил еврейских ”дочурок”. Считая, что я разъезжаю по своим коллегам, гестапо перестало интересоваться мной.
В общей сложности Паукштис выдал сто двадцать метрических свидетельств еврейским детям.
Но не только детям помогал Паукштис. Двадцать пять взрослых скрывалось у него в костеле. Среди спасенных им или тех, которым он помогал спастись, мы встречаем имена доктора Тафта, адвоката Левитана, дочери главы Слободского ешибота Гродзенского, Рашель Розенцвейг, Кисениской, юриста Аврама Голуба с семьей, Капит и других.
Когда кто-нибудь из спасенных им попадался в руки властей, Паукштис искал возможности подкупить гестаповцев и нередко ему это удавалось.
— Вы считаете, — говорит ксендз Паукштис, — что я во многом помог, но я с грустью думаю о том, насколько больше я мог бы сделать, если бы был одарен свыше пониманием конкретных дел.
Паукштис показал нам письмо от еврейской девушки Рашель Розенцвейг, которой он помог спастись и которая сейчас учится в Ковенском университете.
Письмо написано по-литовски. Я переведу несколько начальных строк.
”Дорогой отец! Разрешите мне так называть Вас. Разве Вы не отнеслись ко мне, как отец к дочери? Разве Вы не приютили меня, когда я пришла к Вам после стольких переживаний, такая несчастная. Не спрашивая ни о чем и ничего от меня не требуя, как если бы это было само собой понятно. Вы сказали: ”Здесь, у меня, ты успокоишься, дитя мое, и пробудешь некоторое время...”
Письмо длинное. Оно написано с любовью и уважением, и все его содержание свидетельствует о том, что в жутких условиях гитлеровского произвола в Советской Литве были добрые, честные люди, которые выполняли свой человеческий долг спокойно, как вполне естественное дело.
ЛАГЕРЯ УНИЧТОЖЕНИЯ
В ХОРОЛЬСКОМ ЛАГЕРЕ.
Сообщение А. Резниченко. Подготовил к печати Василий Гроссман.
При немцах я, художник Абрам Резниченко, скрывался под именем Аркадий Ильич Резенко, уроженец Кустанайской области, шофер.
В дни отступления — осенью 1941 года — я попал в окружение на левом берегу Днепра.
Раненый, отбившись от своих, я кружил вокруг Пирятина и две недели скитался по лесам, прятался в балках. Войти в город я боялся. Измученный, голодный, обессиленный, вшивый, я, в конце концов, попал в руки немцев. Они заключили меня в Хорольский лагерь.
На небольшом, обнесенном колючей проволокой, участке, томилось шестьдесят тысяч человек. Здесь были люди всех возрастов и профессий, военные и штатские, старики и юноши многих национальностей.
Вся моя сознательная жизнь протекала в советском государстве. Естественно, что мне, советскому гражданину, никогда не приходилось скрывать, что я — еврей.
В первых числах октября 1941 года на виду у многих военнопленных, немецкий солдат нагайкой рассек лицо ни в чем не повинному человеку и крикнул ему, обливавшемуся кровью: ”Ты должен умереть, еврей!” Тогда же всех нас выстроили, этот солдат через переводчика приказал всем евреям выступить вперед.