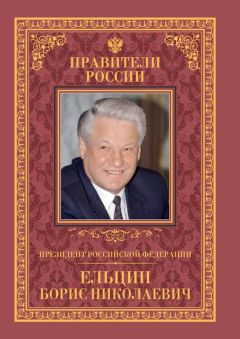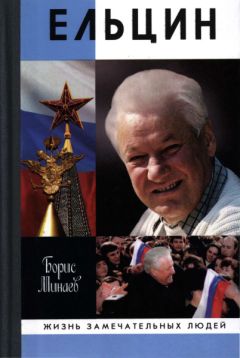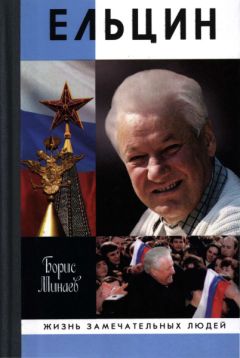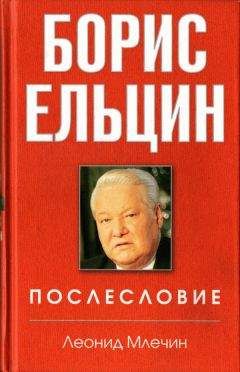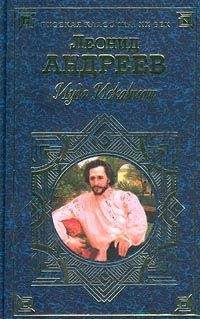Шарль Диль - Византийские портреты
Как освоились эти изгнанницы с новой средой, где по воле судьбы им пришлось жить? Что сохранили они на своей новой родине из идей и нравов родного края? Принесли ли византийки с собой на Запад хоть что-нибудь из той высшей цивилизации, в какой были воспитаны? Эллинизировались ли западницы от соприкосновения с миром более образованным, более изящным, куда занесла их судьба? Все эти вопросы возникают в уме того, кто собирается изучать жизнь этих цариц, и решение их, переходя тесные границы частных изысканий, быть может, представляет некоторый интерес для истории Византии и истории цивилизации вообще. Действительно, тут можно видеть, до какой степени два враждебных и противоположных мира, соприкасаясь друг с другом, оказались способны к взаимному пониманию; из этого можно будет узнать, какую выгоду извлек каждый из них от этого прикосновения и которая из двух цивилизаций, неодинаковых по своей ценности, в конце концов, имела наиболее могучее и наиболее прочное влияние.
Перечень византийских царевен, вследствие брака занявших какой-либо из престолов Запада, сделать недолго. Это - если не считать менее известных особ - Феофано, в конце Х века вышедшая замуж за императора Оттона II и перенесшая с собой на Запад утонченность и изящество византийского двора. Это Феодора, одна из племянниц царя Мануила Комнина, вышедшая в 1148 году за герцога Генриха Австрийского, брата германского императора Конрада III. Это, наконец, Ирина Ангел, в конце XII века ставшая женой германского императора Филиппа Швабского, младшего сына Фридриха Барбароссы, и сумевшая в этом чисто политическом браке найти брак по любви. По правде сказать, к этим бракам между византийками и латинянами никогда не относились очень {327} хорошо при константинопольском дворе. Казалось, будто царевны, переселенные таким образом в далекие царства, были жертвы, принесенные, по выражению Федора Продрома, "западному зверю"; и родители этих несчастных, в отчаянии от таких браков, "оплакивали своих живых дочерей так, как если бы они были мертвыми". Как бы в подтверждение этих предчувствий, принесенные в жертву требованиям политики, молодые женщины были очень редко счастливы и рано умирали, будучи не в силах до самой смерти забыть страну, где родились. Конечно, Феофано привязалась к немецкой империи, которой управляла вместо своего сына Оттона III, а Ирина Ангел беззаветно отдалась любимому мужу. Тем не менее взоры обеих были всегда обращены к Константинополю. У Византии взяла Феофано ту высшую цивилизацию, которую она принесла Германии, и те идеи, в которых она воспитала своего сына. Ирина всю жизнь мечтала возвести своего мужа на трон Константина. Таким образом, эти византийки, вышедшие замуж на Западе, были, в сущности, царевнами в изгнании и очень мало усвоили из образа жизни того нового мира, куда переселились.
Равным образом и этот новый мир не был с ними очень приветлив, а часто и прямо им враждебен. Если Ирина и стала до известной степени популярной вследствие своих несчастий, Феофано всегда оставалась безвестной. Люди ее времени клеветали на нее за ее честную жизнь, порицали чрезмерную привязанность, какую она выказывала своим соотечественникам, укоряли ее за пагубное влияние, какое она имела на своего мужа. Но в особенности видели они в византийке главную совратительницу Германии с пути добродетели. "Ее пышные наряды, - пишет один современник, - служили плохим примером немецким женщинам". Другой летописец строго критикует ее легкомыслие. Наконец, одна любопытная легенда, создавшаяся на ее счет, достаточно хорошо показывает, какое воспоминание оставила она по себе на Западе. Эта легенда гласит, будто императрица после своей смерти явилась одной монахине в жалком рубище с просьбой помочь ей своими молитвами. "Я очень виню себя в том, - говорила она, - что завела в Германии излишнюю греховную роскошь нарядов, столь свойственную грекам, но употребление которой не знали до тех пор немецкие женщины". Не только она сама рядилась в эти одеяния, находя в том больше удовольствия, чем это прилично человеческой природе, но еще вводила в соблазн и других женщин, внушая им желание подобной же роскоши. Поэтому она заслужила вечное проклятие. Тем не менее она надеялась, что благодаря своему благочестию, какое всегда проявляла, она может молитвами благочестивых душ быть извлеченной из ада". {328}
Анекдот этот многозначителен. Он показывает глубокую антипатию, какую питал Запад Х века к этому изящному и утонченному Востоку. И отнюдь не следует думать, что эти чувства были исключительно присущи Германии. Когда через каких-нибудь пятьдесят лет после смерти Феофано венецианский дож Доменико Сельво женился на византийской царевне, современники точно так же возмущались образом жизни, "столь изнеженным и изысканным", какой вела эта иноземка. Разве ей не требовалось для ее омовений вместо простой воды роса, которую служители каждое утро ходили собирать для нее? Разве не обливалась она вся ароматами, и не была всегда одета в великолепные шелковые ткани, и не берегла тщательно рук, нося всегда перчатки? И что еще важнее, вместо того, чтобы есть руками, как все, разве она не доводила своей утонченности до того, что приказывала своим евнухам разрезать себе кушанья, а потом ела их золотой вилкой? Такие скандальные нововведения заслуживали небесной кары. Вследствие злоупотреблений ароматами и маслами тело догарессы стало заживо разлагаться и запах, который шел от нее, был так отвратителен, что все ее сторонились, и она умерла, одинокая, в самом плачевном состоянии.
Так, в силу странного противоречия народы Запада, восхищаясь Византией, ее богатствами, ее великолепием, ее обаятельной цивилизацией, в то же время инстинктивно чувствовали недоверие к ее развращающей и порочной утонченности. Латинские принцы домогались наперебой чести вступить в брак с невестой из императорского дома - народ, к какой бы нации он ни принадлежал, страшился этих восточных красивых чаровниц, казавшихся ему созданными исключительно для того, чтобы изменять качества суровости и силы, какими он гордился. Византия на весь Запад клала печать своего искусства, своей промышленности, своей роскоши. Тем не менее латиняне никогда не любили этих греков, слишком изобретательных, слишком изворотливых, слишком утонченных; признавая их превосходство, они в то же время опасались его. Императрица Феофано первая испытала это на опыте; в последующие века много других случаев не менее очевидно доказали упорную антипатию двух противоположных друг другу и соперничающих друг с другом миров. По мере того как благодаря крестовым походам соприкосновения между ними стали чаще, несогласия между греками и латинянами только возрастали. Никогда не дошли они до того, чтобы вполне понимать друг друга, и еще менее, чтобы дружески переносить друг друга; и на долю Византии, которой цивилизация была обязана такими крупными успехами, выпала странная судьба видеть одно недоверие и неблаго-{329}дарность со стороны именно тех, кому она наиболее всего оказала пользы.
История западных принцесс самым наглядным образом показывает нам эту вечную и печальную антиномию.
I
БЕРТА ЗУЛЬЦБАХСКАЯ, ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРАТРИЦА
С тех пор как первый крестовый поход привел к более близкому столкновению Восток и Запад, Византия стала великой европейской державой; следовавшие один за другим походы, предпринимавшиеся для освобождения Гроба Господня, основание франкских государств Сирии, умножив сношения греков с латинянами, пробудили в последних честолюбие, разожгли в них алчность, возбудили злобу и мстительность, создав в то же время новые интересы; первых такое положение дел заставило прежде всего понять необходимость отказаться от презрительного высокомерия, какое они выказывали раньше в отношении "варваров", и считаться с этими новыми народами, нарождавшимися к жизни. Конечно, это сближение не породило никакой действительной симпатии; однако своего рода любопытство, смутное сознание взаимной нужды влекло друг к другу эти два мира, долго друг друга не знавшие. В XII веке великая Восточная империя, с каждым днем все больше и больше выходя из своей отчужденности, принимает участие во всех важных делах европейской политики: в царствование Мануила Комнина в особенности Константинополь стал действительно одним из центров этой политики.
В первой половине XII века страшная опасность угрожала монархии василевсов. Могущественное государство, основанное норманнами в южной Италии и Сицилии, простирало свои честолюбивые виды за пределы Адриатики: подобно Роберту Гвискару и Боэмунду, и Рожер II мечтал увеличить свои владения за счет Константинопольской империи. Чтобы бороться с таким сильным противником, византийцам нужен был союзник; они стали искать его среди германских народов, имевших постоянно честолюбивые замыслы насчет Италии, а потому более других способных нейтрализовать усилия предприимчивого сицилийского монарха. В 1135 году, а также два года спустя, в 1137 году, в Германию были отправлены греческие посольства, чтобы подготовить почву для соглашения; новая миссия была отправлена в 1140 году к королю Конраду III с более определенными предложениями. Чтобы окончательно скрепить предполагавшееся соглашение, византийский двор предлагал соединить браком эти две династии, прося, чтобы в {330} Константинополь была отправлена "молодая девушка царской крови", которая вышла бы там замуж за севастократора Мануила, четвертого сына императора Иоанна Комнина.