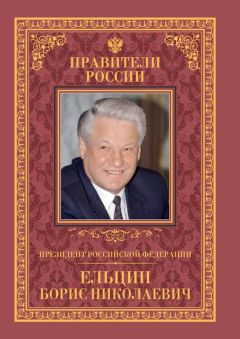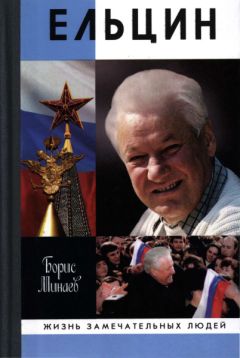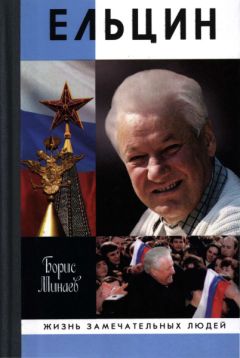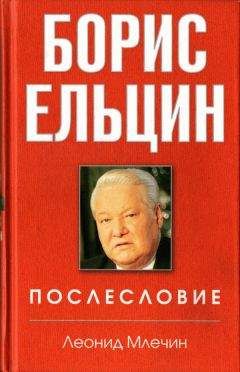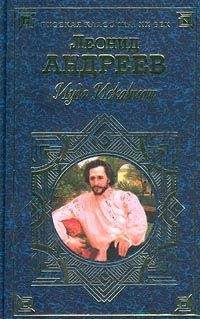Шарль Диль - Византийские портреты
Со свойственным женщинам противоречием эта дама позднее упрекает своего мужа даже за подарки, какие он ей делал: "Вы знаете тот козак, что мне подарили, - можете его взять обратно. Берите назад мой шелковый плащ, мой высокий головной убор, мое желтое платье с крупными разводами. Подарите их кому-нибудь, продайте их, отдайте, кому пожелаете". Затем следуют упреки относительно состояния дома. "Вы живете в моем доме и ни капли о нем не заботитесь. Мрамор растрескался, потолок обваливается, черепица разбита, крыша загнила, стены покосились, сад заглох. Не осталось ни одного украшения, ни штукатурки, ни раскраски, ни мраморной вставки. Все двери расшатаны, решетки обломаны, заборы валяются в саду. Вы не исправили ни одной двери, не заменили ни одной доски, даже в зимнюю пору. Не переложили черепицы, не подняли стены, не позвали каменщика, чтобы починить ее. Вы не купили ни одного гвоздя, чтобы вбить его в дверь". В этом разоренном жилище всю службу несет женщина: она смотрит за детьми, ткет одежды, управляет делами, бегает, хлопочет {323} до изнеможения, в то время как муж бездельничает, шатаясь по кабакам, и вкусно ест. Наконец, в довершение, она разражается жалобами на свой неравный брак. "Да посмотри же на меня немного, мой милый, слышишь? Я пользовалась почетом, а ты бедный носильщик; я была благородной, а ты бедный горожанин. Ты спал на циновке, а я на кровати. У меня было богатое приданое, а у тебя одна ножная ванна. У меня было золото и серебро, а у тебя тазы, квашня да большой котел. Ну, так вот что: если тебе хотелось обмануть, соблазнить девушку и жениться на ней, ты должен был выбирать себе равную, какую-нибудь дочь кабатчика, какую-нибудь бесприданницу, хромую и покрытую веснушками, или какую-нибудь замарашку из предместья. Но для чего было увиваться за мной, за бедной сиротой, зачем преследовать меня приставаниями и соблазнительными речами?"
Тщетно под градом всех этих упреков склоняет муж голову и старается успокоить свою разгневанную половину. Госпожа плачет, рвет на себе волосы, царапает лицо, госпожа вконец взбешена; затем вдруг, надувшись, хватает в охапку детей, прялку, бежит к себе в комнату и там запирается.
Такие сцены повторяются беспрестанно, и некоторые из них достигают героически-комических размеров. Один раз возвратился Продром домой: он голоден. "Я был натощак, - говорит он, - я не выпил моего любимого напитка (я не желаю скрывать своих провинностей, это один из моих грехов, которому я часто подпадаю), я был в скверном расположении духа, я грубо заговорил с женой, и она стала выливать на меня поток обычных своих упреков. "Я тебе не раба и не прислуга, - закричала она. - Как смеешь ты поднимать на меня руку? Как тебе не стыдно?". И посыпалось и посыпалось, так что сначала поэту хотелось отвечать на всю эту брань пощечинами; но он знает свою жену и благоразумно сам себе говорит: "Ради спасения собственной души, Продром, сядь и храни молчание. Храбро снеси все, что она тебе скажет. Ибо, если ты ее ударишь, если станешь бить и сделаешь ей больно, она кинется на тебя, и так как ты мал, стар и бессилен, она бросится на тебя, отшвырнет тебя одним взмахом, и если начнет бить, может легко убить на месте". Однако, в конце концов, он поддается злобе и вооружается палкой от метлы; но тут госпожа убегает и запирается. "В полном негодовании я хватаю палку от метлы и бешено колочу ею в дверь. Увидав в ней дырку, ввожу туда палку от метлы. Но жена моя наскакивает, хватает палку, тянет к себе, а я - к себе. Затем, видя, что сила на моей стороне, и заметив, что я перетягиваю ее к себе, она выпускает палку от метлы, приоткрывает дверь, и я растягиваюсь во всю длину". Тогда она опять принима-{324}ется издеваться над ним и после нового потока бранных слов идет к себе и опять запирается. А между тем бедняк все остается голодным; но ключи от шкафа у госпожи. Тогда он смиряется и решает лечь спать, вспомнив, конечно, поговорку, что "кто спит, тот обедает", и вот, во время сна, слышит он соблазнительный запах рагу, так и щекочет ему обоняние. Одним прыжком вскакивает он с постели и видит: стол накрыт и вся семья собирается обедать. А его никто не зовет. Тогда ему приходит в голову странная мысль. Он переодевается и в костюме славянина, надев на голову ярко-красную шерстяную ермолку, взяв в руки длинную палку, принимается кричать под окнами: "Подайте милостыню, добрая госпожа, пожалейте бесприютного". Дети, не узнав отца, хотят палками и камнями прогнать нищего. Но жена, смекнув, в чем дело, говорит им: "Оставьте его: это бедный, нищий, странник". Его приглашают к столу, наливают ему супу, режут свежепросольной свинины, и вся эта еда, так долго им ожидаемая, увеселяет его сердце.
А вот и заключение поэмы. "Таковы бедствия, о великий монарх, претерпенные мною от злой и строптивой жены. А потому, государь, если ты не явишь мне своего милосердия, если не осыпешь дарами и щедротами эту ненасытную женщину, я боюсь, я страшусь, я дрожу, что погибну преждевременно, и таким образом ты потеряешь твоего Продрома, наилучшего из твоих слуг".
Несомненно, в этой поэме есть доля умышленной утрировки, шутливого преувеличения, чем автор намеревается позабавить своего августейшего покровителя, и мы не думаем, чтобы тут следовало искать точное описание семейной жизни Федора Продрома. Но это произведение интересно в другом отношении. Наряду с придворной пышностью, с торжественной, строгой, церемониально-напыщенной жизнью императорского дворца, наряду с существованием, какое вели люди высшего света, оно дает нам заглянуть одним глазом в жизнь народа, почуять, сколько было живописного, красочного и привольного в этом византийском обществе, которое мы неосновательно воображаем строго подчиненным этикету, преклоняющимся перед обычаями и светской выправкой. И в этом существовании придворного поэта эпохи Комнинов ярко выступает любопытный контраст между величественной севастократориссой, умной, изящной, ученой, писательницей, и крикливой кумушкой с резкими манерами, с грубым, вульгарным говором, поглощенной своим хозяйством и управлением домом, в некоторых отношениях, по крайней мере, столь близкой к выдающимся женщинам среднего сословия VIII и XI веков, уже изображенным нами раньше 3, от которых произошло могучее племя, долго составлявшее силу Византийской империи. {325}
ГЛАВА VI. ЗАПАДНЫЕ ПРИНЦЕССЫ
ПРИ ДВОРЕ КОМНИНОВ
В одной из книг, написанных Константином Багрянородным с воспитательной целью для своего сына, где он выставляет в виде аксиом руководящие правила византийской политики Х века, император, между прочим, пишет следующее: "Каждый народ имеет свои обычаи и свои законы; он должен поэтому крепко держаться того, что ему свойственно по природе, и лишь в себе самом искать средства создать те узы, на которых основана социальная жизнь. Как всякое животное соединяется лишь с однородными себе, так и всякая нация должна принять за правило вступать в брачные союзы никак не с людьми другой расы и другого языка, но с лицами одного языка и происхождения. Ибо одно это породит между заинтересованными доброе согласие и сердечные отношения".
В силу этого правила, где больше всего сказывалось высокомерное презрение, с каким византийцы относились ко всему остальному миру, императорский двор с пренебрежением отвергал все брачные предложения, шедшие от иноземных дворов. В глазах государственных людей Константинополя это было вещью "неприличной, посягавшей на величие Римской империи" - мысль о браке царевны императорского дома с каким-нибудь из этих принцев, "неверных и безвестных", живших скромно где-нибудь на далеком Севере или Западе, и когда получалось "такое нелепое предложение", его торопились отклонить. Как царские драгоценности, принесенные Константину ангелом, не могли ни под каким видом перейти в руки варваров, как греческий огонь, открытый ангелом первому христианскому императору, не должен был ни под каким предлогом быть передан иноземцам, так точно, по "непреложному постановлению" самого царя Константина, было определено, что порфирородные царевны не могли, не роняя своего достоинства, соединяться с представителями иной национальности, и для императора являлось почти позорным жениться на женщине, не принадлежавшей по рождению к византийскому миру.
Однако не один раз начиная с Х века политика отступала от правил, формулированных таким образом, и многие девушки из императорского дома должны были, смирившись, выйти замуж за того или другого из монархов-варваров. Византийский двор старался дать наилучшее объяснение этим неравным бракам и всякими тонкими ухищрениями оправдать такое унижение его гордости. {326} Но, несмотря на все старанье, какое прилагали, чтобы соблюсти правила, и хоть заявляли всегда и не без высокомерия, что "неслыханная вещь, чтобы порфирородная, дочь порфирородных, могла выйти за варвара", требования времени и политическая необходимость все больше и больше заставляли изменять установленные традиции. Во второй половине Х века одна царевна императорского дома вышла замуж за немецкого императора, другая за русского царя; и мало-помалу уменьшался ужас, какой сначала внушали подобные браки. Позднее, в эпоху Комнинов, не одна византийская царевна вступила на тот или другой из престолов Запада; и наоборот, в ту же эпоху Комнинов и Палеологов много латинских принцесс разделили порфиру с византийским императором.