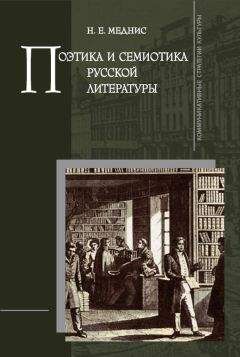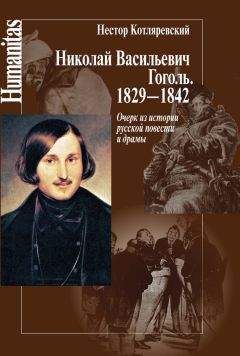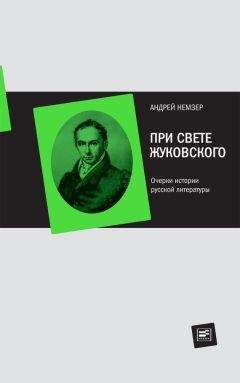Василий Сиповский - История русской словесности. Часть 3. Выпуск 1
108
"…Co страхомъ оборотился дѣдъ… Боже ты мой, какая ночь! ни звѣздъ, ни мѣсяца; вокругъ провалы; подъ ногами круча безъ дна; надъ головою свѣсилась гора, и воть-вотъ, кажись, такъ и хочетъ оборваться на него! И чудится дѣду, что изъ-за нея мигаетъ какая-то харя: y! y! носъ — какъ мѣхъ въ кузницѣ; ноздри — хоть по ведру воды влей въ каждую! губы, ей-Богу, какъ двѣ колоды! Красныя очи выкатились на верхъ, и еще языкъ высунула и дразнитъ… Вотъ чудится ему, что пень дерева пыхтитъ и дуется, показываются уши, наливаются красные глаза, ноздри раздулись, носъ поморщился, и вотъ, такъ и собирается чихнуть".
109
Особенно ярко сказываетея эта манера письма въ общеизвѣстномъ описаніи Днѣпра ("Чуденъ Днѣпръ…"). Здѣсь гиперболы, бьютъ въ глаза (…рѣдкая птица долетитъ до середины его…); метафоры порой вызываютъ недоумѣніе (напр.: "сыплется громъ").
110
Въ изображеніи этихъ героевъ и героинь Гоголь измѣнялъ пріемамъ письма романтической школы. Онъ изображалъ этихъ героевъ такъ отвлеченно, какъ изображали своихъ героевъ псевдоклассики и особенно сентименталисты.
111
"…Шумъ, брань, мычаніе, блеяніе, ревъ — все сливается въ одинъ нестройный говоръ. Волы, мѣшки, сѣно, цыгане, горшки, бабы, пряники — все ярко, пестро, нестройно, мечется кучами и снуется передъ глазами. Разноголосыя рѣчи потопляютъ другъ друга, и ни одно слово не выхватится, не спасется отъ этого потока; ни одинъ крикъ нe слышится ясно. Только хлопанье по рукамъ торгашей слышится со всѣхъ сторонъ ярмарки. Ломается возъ, звепитъ желѣзо, гремять сбрасываемыя на землю доски, и закружившаяся голова недоумѣваетъ, куда обратиться…" и т. д. Еще описаніе ярмарки въ повѣсти: "Пропавшая грамота" — изображенъ другой моментъ.
112
"Кумова жена была такого рода сокровище, какихъ немало на бѣломъ свѣтѣ. Такъ же, какъ и ея мужъ, она почти никогда не сидѣла дома, и почти весь день пресмыкалась y кумушекъ и зажиточныхъ старухъ, хвалила и ѣла съ большимъ аппетитомъ и дралась только по утрамъ со своимъ мужемъ, потому что въ это только время и видѣла его иногда. Хата ихъ бьіла вдвое старѣе шароваровъ волостного писаря; крыша въ нѣкоторыхъ мѣстахъ была безъ соломы. Плетня видны быди один остатки, потому что всякій, выходившій изъ дому, никогда не бралъ палки для собакъ, въ надеждѣ, что будетъ проходить мимо кумова огорода и выдернетъ любую изъ его плетня. Печь не топилась дня по три. Все, что ни напрашивала нѣжная супруга y добрыхъ людей, прятала, какъ можно подалѣе отъ своего мужа и часто самоуправно отнимала y него добычу, если только онъ не успѣвалъ ее пропить въ шинкѣ. Кумъ, несмотря на всегдашнее хладнокровіе, не любилъ уступать ей, и оттого почти всегда уходилъ изъ дому съ фонарями подъ обоими глазами, a дорогая половина, охая, плелась разсказывать старушкамъ о безчинствѣ своего мужа и о претерпѣнныхъ ею отъ него побояхъ…"
113
Пьяницу мельника, который совершенно былъ ни къ чему негоденъ, она собственною своею мужественною рукою, дергая каждый день за чубъ, умѣла сдѣлать золотомъ, a не человѣкомъ. Ростъ она имѣла почти исполинскій, дородность и силу совершенно соразмѣрную. Казалось, что природа сдѣлала непростительную ошибку, опредѣливъ ей носить темно-коричневый, по буднямъ, капотъ съ мелкими сборками и красную кашемировую шаль въ день Свѣтлаго Воскресенья и своихъ именинъ, — тогда какъ ей болѣе всего шли бы драгунскіе усы и длинные ботфорты. Зато занятія ея совершенно соотвѣтствовали ея виду: она каталась сама на лодкѣ, гребя весломъ искуснѣе всякаго рыболова, стрѣляла дичь, стояла неотлучно надъ косарями, знала наперечетъ число дынь и арбузовъ на баштанѣ, брала пошлину по пяти копѣекъ съ воза, проѣзжавшаго черезъ ея греблю; взлѣзала на дерево и трусила груши; била лѣнивыхъ вассаловъ своею страшною рукою и подносила достойнымъ рюмку водки тою же грозною рукою. Почти въ одно время она бранилась, красила пряжу, бѣгала на кухню, дѣлала квасъ, варила медовое варенье и хлопотала весь день и вездѣ поспѣвала.
114
,…Онъ неотлучно бывалъ въ полѣ при жнецахъ и косаряхъ, и это доставляло наслажденіе неизъяснимое его кроткой души. Единодушный взмахъ десятка и болѣе блестящихъ косъ; шумъ падающей стройными рядами травы; изрѣдка заливающіяся пѣсни жницъ, то веселыя, какъ встрѣча гостей, то заунывныя, какъ разлука; спокойный, чистый вечеръ, — и что за вечеръ! какъ воленъ и свѣжь воздухъ! какъ тогда оживлено все: степь краснѣетъ, синѣетъ и горить цвѣтами; перепелы, дрофы, чайки, кузнечики, тысячи насѣкомыхъ, и отъ нихъ свистъ, жужжаніе, трескъ, крикъ и вдругъ стройный хоръ; и все не молчитъ ни на минуту; a солнце садится и кроется. У! какъ свѣжо и хорошо! По полю, то тамъ, то сямъ, раскладываются огни и ставятъ котлы, и вкругъ котловъ садятся усталые косари; паръ отъ галушекъ несется; сумерки сѣрѣютъ… Трудно разсказать, что дѣлалось тогда съ Иванъ Ѳедоровичелъ. Онъ забывалъ присоединиясь къ косарямъ, отвѣдать ихъ галушекъ, которыя очень любилъ, и стоялъ неподвижно на одномъ мѣстѣ, слѣдя глазами пропадавшую въ небѣ чайку…".
115
Впрочемъ, «ругателемъ» онъ является только по отношенію къ своимъ крѣпостнымъ. Характерная сцена угощенія Шпоньки. Когда онъ отказался взять «стегнышко», Сторченко заставилъ лакея стать на колѣни и просить Шпоньку: "Становись, подлецъ, на колѣни! Говори сейчасъ: "Иванъ Ѳедоровичъ, возьмите стегнышко!" — "Иванъ Ѳедоровичъ, возьмите стегнышко!" — проревѣлъ, ставъ на колѣни, оффиціантъ съ блюдомъ".
116
…Молчаніе продолжалось около четверти часа. Барышня все такъ же сидѣла.
Наконецъ, Иванъ Ѳедоровичъ собрался съ духомъ: "Лѣтомъ очень много мухъ, сударыня!" — произнесъ онъ полудрожащимъ голосомъ.
— "Чрезвычайно много!" — отвѣчала барышня. — "Братецъ нарочно сдѣлалъ хлопушку изъ стараго маменькина башмака, но все еще очень много".
Тутъ разговоръ опять прекратился.
117
Это "писаніе" издалека, какъ результатъ радостныхъ дѣтскихъ воспоминаній, и внесло ту идеализацію въ описанія природы и жизни малороссійской, которая такъ очевидна въ "Вечерахъ на хуторѣ близъ Диканьки".
118
"…Каганецъ, дрожа и вспыхивая, какъ бы пугаясь чего, свѣтилъ намъ въ хатѣ. Веретено жужжало; a мы всѣ, дѣти, cобравшись въ кучку, слушали дѣда, не слѣзавшаго отъ старости болѣе пяти лѣтъ съ своей печки. Но ни дивныя рѣчи про давнюю старину, про наѣзды звпорожцевъ, про ляховъ, про молодецкія дѣла Подковы, Полторакожуха и Сагайдачнаго не занимали насъ такъ, какъ разсказы про какое-нибудь старинное чудное дѣло, отъ которыхъ всегда дрожь проходила по тѣлу, и волосы ерошились на головѣ. Иной разъ страхъ, бывало, такой заберетъ отъ нихъ, что съ вечера все показывается, Богъ знаетъ, какимъ чудищемъ. Случится, ночью выйдешь за чѣмъ-нибудь изъ хаты, вотъ такъ и думаешь, что на постели твоей уклался спать выходецъ съ того свѣта… Я принималъ часто издали собственную свитку, положенную въ головахъ, зa свернувшагося дьявола".
119
Впрочемъ, при всей добросовѣстности Гоголя въ этомъ отношеніи, онъ не разъ погрѣшалъ противъ правды. Его "повѣсти" уже современными критиками разобраны были съ этнографической точки зрѣнія и обнаружили въ Гоголѣ человѣка, который обо многомъ говорилъ съ чужого голоса. Какъ на одинъ изъ яркихь примѣровъ его отступленій отъ правды малороссійскаго быта, указываютъ, напримѣръ, на свадьбу Грицка съ Параской въ "Сорочинской ярмаркѣ". Народная свадьба сопровождается многими и длинными обрядами и такъ скоро не могла быть закончена, какъ разсказываетъ Гоголь. Такъ же неправдоподобной, по указаніямъ этнографовъ, является сцена вызыванія дѣвушки изъ дома при помощи игры на бандурѣ. Этотъ пріемъ пѣть «серенады» подъ окнами возлюбленныхъ въ Малороссіи не практикуется. Совершенно противорѣчитъ патріархальнымъ обычаямъ деревни и сочиненіе про отца такой пѣсни, какую сложилъ Левко ("Майская ночь"). "Переряживаніе", къ которому онъ прибѣгаетъ, тоже противорѣчитъ обычаямъ деревни, — рядятся въ деревнѣ только на Святкахъ.
120
Въ этомъ послѣднемъ случаѣ Гоголю удается удивительно и мастерски сочетать реализмъ съ фантастикой. Какъ удивительно реально изображена имъ, напримѣръ, игра въ карты съ вѣдьмой и чертями въ аду: "Козырь!" вскричалъ онъ, ударивъ по столу картою такъ, что ее свернуло коробомъ; та, не говоря ни слова, покрыла восьмеркою масти. "А чѣмъ ты, старый дьяволъ, бьешь?" Вѣдьма подняла карту: подъ нею была простая шестерка. "Вишь, бѣсовское обморачиванье!" — сказалъ дѣдъ и съ досады хватилъ кулакомъ что силы по столу. Къ счастью еще, что y вѣдьмы была плохая масть; y дѣда, какъ нарочно, на ту пору — пары. Сталъ набирать карты изъ колоды, — только мочи нѣтъ; дрянь такая лѣзетъ, что дѣдъ и руки опустилъ. Въ колодѣ ни одной карты. Пошелъ уже такъ, не глядя, простою шестеркою; вѣдьма приняла. "Вотъ тебѣ на! это что? Э, э! вѣрно, что-нибудь да не такъ!" Вотъ, дѣдъ карты потихоньку подъ столъ и перекрестилъ; глядь — y него на рукахъ тузъ, король, валетъ козырей, a онъ, вмѣсто шестерки, спустилъ кралю. "Ну, дурень же я былъ! Король козырей! что? приняла? А? кошачье отродье! A туза не хочешь? Тузъ! валетъ!" Громъ пошелъ по пеклу…"