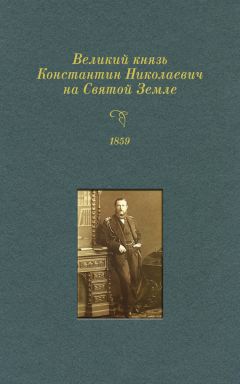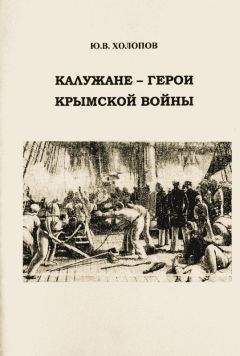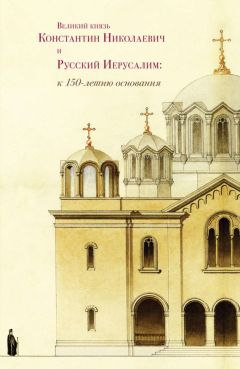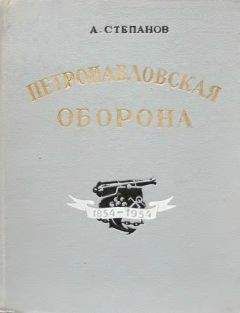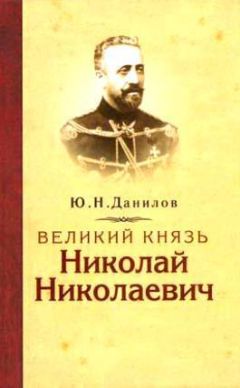Сергей Максимов - Год на севере
— Ну, прости нашу глупость мужицкую, что беспокойство тебе причинили. Не гневайся!.
Задние уже полеали из дверей, но выборный оставался.
— Мы ведь темный народ, известно. Думали, что ты вправду такой!..
Он, наконец, поклонился и вышел. В избе уже начался базарный шум, который становился все громче и громче. Немного спустя дверь опять отворилась. Явился седой старик опять с поклоном:
— Говорить с тобой послали...
— Об чем же?
— О том говорить послали, что тебе самому-то надо. Сказывай! Зачем, даве сказывал, послали-то тебя? — я не вслушался...
— Посмотреть, как вы суда строите, как вы рыбку ловите...
— Суда строим? да судов-то мы ведь не строим никаких, нет у нас заводу экого с искони бе. Карбасишки вон шьем маленькие, про домашнюю потребу. Большие-то суда из Мезени приводим. Пониже-то, вон в Городке (Пустозерске), в редкую когда строят же и большие, да мало... Каюки* чердынцы приводят, — так и те там вверху делают, у них же. Пущаем их с рыбкой, кому надо. А рыбку-то мы больше семужку да сижков промышляем, велишь, что ли, сказать, как рыбку-то промышляем, али не надо?.. Может, ты так про рыбу-то спрашивал?...
— Сделай милость, будь так добр!
— Осенью ведь это больше, потому семужка рыбка такая прихотливая, забавная сказать бы тебе надо.
Любит она, матушка, ветры, бури, чтоб вода-то, как в котле, кипела. Знает ли она, что человеку-то эта погода не люба, и сидит-де всякий крещеный в ту пору дома, али бо другое что; по мне, кажись, вернее то: Господь ее Бог сотворил уж такой, что ей бы все с волной, да с порогами бороться, силой своей действовать... Христос ее ведает в том. Только она все против воды идет на устрету, а ведь, Печорушка-то наша больно же бойка, быстро бежит. Навага, сиг, пелядь опять — эти идут больше в ясную погоду, когда солнышко светит, а семужка — нет! Как выходит, поднялись бури, так мы за ней и выезжаем — прости, Бог, грехам нашим! Пущаем поплавню — сеть такая большая, как есть река шириной. Этой больше ловим всем селением, а то и неводами: — теми, почитай меньше, одначе. Что выловим, то на мир и разложим и продадим чердынцам, которые на каючках-то приходят к нам. Этим вот и подати оплачиваем государевы. Ты так и записывай, где у тебя там.
То же общинное право является в силе и дальше на устьях Печоры, где так же все участвуют в лове, не исключая вдов и сирот. Тони погодно переодят в пользование от одной деревни к другой, и каждая деревня, в свою очередь, имеет хорошую и худую тоню. Одни действуют капиталом, другие — трудом. Желающие продают свои паи или участки в паях.
— Что ж дальше с рыбой?
— Солим. Правда, лежит же она у нас сутки двои и, пожалуй, и трои в воде, мокнет — значит...
— Зачем же так? Ведь этак вся истощает: она дрябнет телом, делается хуже, вон как и по Белому морю.
— Это правда, что дрябнет, тоже вон и чердынцы сказывают.
— И солите-то, верно, скупо.
— Не больно же щедро: и на это указывают все...
— За чем же дело, отчего не делаете лучше?
— Да уж делать видно так, как заведено исстари. Вот поди ты, отчего бы и не делать-то лучше, право! Ишь ведь мы народ какой глупый, право? Захотел ты от нас, от дураков: как, знать, рождены, так и заморожены, право!..
— Чем же еще-то живете вы?
— Да как чем — вон скотинку держим и много скотинки-то этой держим. Бьем ее — мясо продаем самоеди. Любят ведь они мясо-то и сырьем жрут, так — пар тебе идет от нее, кровь течет с нее, а ему-то тут, нехристю, и скус, и глазенки-то его махонькие все радостью этой наливаются. Это ведь не русское племя. Вон посмотри ты их: живут они по тундре-то и по деревне у нас ходят, кто за милостыней, кто в работниках живет; бабы... те больше шьют и таково ловко шьют — поискать тебе на белом свете!
— Олени-то есть у вас?
— Самая малость. Только про свой обиход. Во всем селении не найдешь половины протяну того, что вон у ижемца у другого и не больно богатого. Олени-то все у них, вся тундра у них, всех самоедов ограбили эти ижемцы. Зыряне ведь они, не наши!.. Бедное ведь наше селенье, больно бедное: босоты да наготы изувешены шесты. Смотри: дома все погнили да рушатся, а поправить нечем: Вон и теперь дело с пустозерами не можем порешить: загребли Печорушку всю, почесть; выселки свои понаделали чуть не под самым у нас носом. Тако дело!. Не похлопочешь ли ты, ваше сиятельство, яви милость божескую! Плательщики бы были до гробовй доски!..
Старик поднялся со скамьи и повалился в ноги.
— Не нравится мне, старик, низкопоклонство ваше, — зачем оно?
— И, батюшка, с поклону голова не сломится! Будь ты-то только милостив, а мы за этим не стоим!..
— Вы, старик, все-таки меня не за того принимаете, за кого надобно, ошибаетесь...
— Ну, прости, прости, разумник! Не буду просить, ни о чем не буду просить, разве... не кури вот, кормилец, при мне: больно уж оченно перхота долит!
— Изволь, для тебя и за твою словоохотливость...
— Ну да ладно, постой, о чем бишь ты даве спрашивал? Еще-то тебя зачем послали?
— Да вот за тем еще, чтоб посмотреть, как живете?
— Живем-то? Да больно же нужно живем. Сторона, вишь, самая украйная; чай, тебе и доехать до нас много же времени хватило?.. Больно бедно кивем — это что и толковать! Прежде получше жили, а вот теперь какую тебе чердынцы цену за семгу дадут, то и ладно, ту и берешь с крестом да с молитвой. На все ведь нам надо деньги; все ведь мы покупаем: вон и постели — шкуры оленьи, надо бы сказать тебе, — и те покупаем, чего бы хуже! У ижемцев экого добра столь, что хоть волость-то всю укутывай — хватит. Они и оденутся, они и денежки в кованый сундук положат - богаты! Бедней-то нас ты на всей Печоре не сыщешь. Не многим, чем самоеди-то, богаче живем...
— Зачем же народу так много у кабака стоит?
— Пьют у нас — это правда, что пьют, да не больно же шибко. А у кабака стоит кто: не всякий же и за питьем пришел; гляди на половину так постоять собрались да покалякать. Где больше-то делать этак в другом месте? А тут тебе весь мир, весь деревенский толк. Малицы наши теплы, и к морозу мы свычны, озяб который, в кабак зайдет погреться: под руками, благо. По праздникам пьют и шибко гуляют—что хитрить? Наши пьяницы, хоть и не очень отягощают себя пьянством, однако, не дадут своей доле испортиться в подвальной бочке, да и чужое-то, пожалуй, не квасят. Я ведь тебе всю правду... Что же еще-то ты смотреть у нас станешь?
— Песни буду слушать да записывать, не попадется ли хорошая?
— На поседки, стало, пойдешь к девкам? Это ты дело! У нас это все любят, никто не обойдет селения нашего. Затем и слава такая пущена, чай, ты и на Мезени про то слышал? У нас это одно неладно: в старину, сказывают, благочестнее было, да и на моей памяти смирнее. Теперь измотался народ, иссвободился. А может, так и надо... Не сказал ли я тебе, ваша милость, обидного чего этим словом самим. Прости! Я ведь опять с глупа. Пошто же эти тебе песни-то?
— Необходимы также, очень пригодятся мне!
— Да пошто ж и ехать тебе в такую даль? По мне, кажись, ехал ты напрасно: у вас там, в Расее, лучше, красивее, бают, наших песни эти. Не надо бы...
— Это не главное.
— То-то. Еще что тебе надо?
— Посмотреть, как свадьбы справляют.
— Это можно. Почему же опять и не посмотреть тебе, как свадьбы справляют? У нас ведь это все по старине, по самой стародавней.
— Вот это-то и хорошо: это для меня еще более любопытно.
— Ну, врешь, ваше благородие! Ты это не по себе... ты это меня старика приголубить хочешь: видишь, что стар я, да старым крестом помолился, да разговоры тебе разговариваю, ты это меня поласкать... Я тебе не верю! Сказывай дальше!..
— Другие у вас обычаи, каких нет в других местах, приехал посмотреть...
— Да ведь этих-то нет у нас, совсем нет, хоть и не ходи и не выпытывай! Мы живем, надо тебе сказать всю правду, так, как нам начальство велит, от себя мы ничего.., ни-ни, ничевохонько...
Старик при этом мотал головой, шевелил ногами, руками махал; приподнялся со скамьи и, наклонявши голову к плечу, с умоляющим, льстивым выражением лица примолвил:
— Батюшка! Ваша сиятельная особа, христов человек! -позволь я к тебе давешных-то мужиков приведу, хоть не всех... Сделай милость, за благодарностью тебе мы не постоим!..
Словам этим скорее можно было, пожалуй, смеяться , чем сердиться на них. Во всяком случае от старика не было никакой уже возможности добиться чего-нибудь более толкового, идущего к делу. Он начал отвечать как-то урывчиво, невполад, от большей части вопросов отказывался крайним неведением, несмелостью, тупостью и неразумием. Старик; видимо, хитрил и окончательно не доверял мне, что особенно ясно высказал при прощанни со мною:
— Прости, — говорил он, — пошли тебе Господи вечер сей без греха сотворити!
— А ты, кормилец, ангельская твоя душа! — прибавил он потом, немного помолчав и подумавши, — меня не тронешь? Не тронешь за то, что тебе наговорил: может, какую глупость, не ведаючи, вывалил. Памятью-то уж больно слаб стал. Иное и не хотел бы сказать — сказывается! Прости ты меня, старика-дурака досельного. В гроб бы мне уж надо, вот что! Прости, твое благополучие!